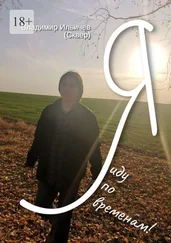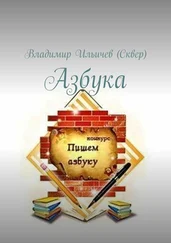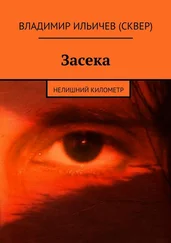От Уфы до Красноярска
пляшет враг – Цейтрафер Смог.
Впрочем, этой свистопляской
каждый угол занемог.
Где бежит река Воронеж,
там лежит, панкует Хой,
даже он – возможно, помнишь,
кайф ценил не городской.
А Шевчук оброс деревней,
ясно кое-что поняв;
стали в Кинчеве и в Гребне
различимы духи трав.
Старый рокер зря не манит —
не барыга, не попса,
поменяй на волю мани,
дуй пешком на голоса.
Или дальше пестуй город,
юзай Пермь и Волгоград,
постигай, покуда молод,
кто горбат, а кто богат!
Кафе, каких на свете миллиард.
На кассе очередь. Заминка, не иначе:
без денег и без пластиковых карт —
старуха… Просит пить, едва не плачет.
Одета бедно. Может, из бомжих,
а может, в коммуналке кто-то бросил.
Никак не обогреется, дрожит.
Голодная. Воды горячей просит.
Подумалось – откажет продавец,
подумалось – пошлёт старуху матом.
Но… ей приносят фирменный супец.
И выпечку в пакете аккуратном.
Большое дело нескольких минут.
Однако время – деньги! Два бугая,
которые всегда от пуза жрут —
зашлись, негодованием пылая.
«Да как же так! Нельзя пускать бомжей!
Тем более, за столики нельзя им!
Фу, шушера! Прогнать её взашей!
Где спец по фейсконтролю? Где хозяин?»
А что же отвечает продавец?
Он отвечает: «Верно говорите,
в кафе приличном шушера не ест,
прошу уйти… Охрана, проводите».
Бугаи то белы, а то красны,
упёрлись, книгу жалобную взяли!
На фоне красноты и белизны
спокойный появляется хозяин.
Бросает взгляд на очередь, на зал,
и молвит, проницательный как Будда:
«Сотрудник наш всё правильно сказал,
здесь шушере не место, прочь отсюда».
Саранча себя поставила поверх
естества, благоразумия и смысла,
так и алчет всё разделать под орех,
ураганом одержимости нависла.
Замерла, и – безоглядно понеслась,
оставляя за собой то сор, то пустошь,
саранча не ест помалу, только всласть,
это противоестественно… но вкусно ж!
Саранча себя поставила поверх,
ну а я тогда зайду с другого бока,
и разделаю кого-то под орех,
что для хламо саранчапиенс – жестоко.
Этот кто-то – я, по кличке Саранча,
я сейчас его… спасу из урагана.
А потом, уже с размахом, сообща,
порезвимся, оторвёмся непогано.
В смысле, выдернем ещё кого-нибудь.
И ещё кого-нибудь. Они продолжат.
Так и сделаем погоду по чуть-чуть,
оставляя непогоду на подошвах.
Я рождён по любви… между связками стрел,
за могучей курмышской стеной,
и поэтому я не спеша рассмотрел
горизонты – ночной и дневной.
Если ворог орущий к стене подойдёт —
запущу ему в око стрелу,
рукописным пером подметя узкий дот —
унесёт она пыль к помелу.
Если нищий бродяга с поющей душой
постучится с другой стороны —
из больших караваев дам самый большой,
потому что амбары полны.
Если ворога дух не уймётся, и мне
показаться бродягой решит —
через око второе пришпилю к сосне,
остудиться в морозной тиши.
Не забыв академию пушечных дел,
я найду в чёрством хлебе ядро,
если кто-то ядра в черепок захотел
и подкрался, опять же, хитро.
Памятуя науку ветлужских лесов,
рецептурники южной тайги —
сыроег насолю, если хил колосок
с удобрения бабы Яги.
После курса латаний кармана страны —
никакая мне брешь не страшна,
нет износа душе, благо нити даны,
из крапивы, когда не до льна.
Ярославский олень дикий мёд на рогах
притаранит, а я и не ем:
стала жизнь для знакомой пчелы дорога,
пусть ей будет поменьше проблем.
Был в богатой Москве – пил, курил, не дышал,
той Ягой обернулась она.
Слава Богу, чихнул, за кольцо сделал шаг,
показалась родная страна.
А когда теремок мой старинный горел
и победен был ворога ор —
я дубравой дышал на заречной горе,
где за церковью прятал топор.
Нет посадки тебе за нетленной стеной —
не летай тут, карга, не труби;
молодей, потребляй добрый плод наливной —
и, глядишь, заживёшь по любви!
Читать дальше