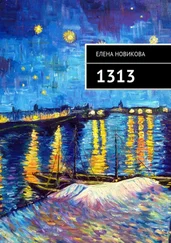Его взгляд бродил по стенам, находя то один, то другой корешок, узнавая… Вот Баскер точно сказал бы, что это проблема дочери и зятя – пусть покупают себе квартиру. Но он любил дочь и понимал, что денег у нее не будет никогда, во всяком случае, на квартиру, такой он ее воспитал…
Итак, нужно избавиться по крайней мере от двух кубометров книг… Пока… Продать, подарить библиотекам, раздать друзьям… Книгам будет не хуже, они не будут скучать и скулить, как на их месте скулил бы пес, они даже будут прочитаны лишний раз, или даже десять… Их кто-то полюбит. Но он почему-то видел их в мешках и обязательно под дождем, брошенных, преданных, забытых…
Дочь ушла по делам, и дома никого не было. Он подходил к полкам, всматривался в лица книг и повторял, как заклинанье: у меня должен родиться внук! Книги молчали. Потом он подумал, что если бы не стало его, и книги были бы не нужны, большая часть.
Он хорошо знал, что сказала бы жена, если бы была жива: перестань ныть! С барахлом нужно расставаться легко: с собой все равно ничего не возьмешь. Но он не мог называть книги барахлом. Он знал, что и жена произносит это слово специально, так сказать, для эмоционального воздействия: вот, мол, живой человек, а вот гора макулатуры.
Он отправился на кухню сварить себе кофе, читать с чашечкой кофе было лучше всего. Решение он только что принял – избавить себя от выбора, кому из книг остаться, кому уйти. Он будет брать наугад, с закрытыми глазами – с каждой полки по одной. Прочитает страничку напоследок, попрощается… Ему даже захотелось для полноты ощущений делать это под музыку… Кто подойдет? Гайдн, Лист? Важно, чтобы без слов, чтобы не отвлекало от текста.
А потом пришла дочь и сказала, что арендовала теплый чулан в соседнем доме, и туда можно временно поселить часть вещей и ходить к ним в гости, а там посмотрим. Она так и сказала – «поселить», будто бы речь шла о живых существах. Если позвать писателя с улицы, он обязательно бы устроил здесь какой-нибудь инсульт, и дочь нашла бы отца на полу, а рядом лежала бы раскрывшаяся при падении книжка – вот на этой странице, а на странице было бы то-то и то-то – привычный апокалипсис. Но жизнь чуточку умнее…
Главной его бедой (а может, как раз удачей) было то, что со всеми своими музами он вступал в человеческие отношения. Музы матерели, старели, плакали и смеялись, у них выпадали зубы и волосы, они выходили замуж и рожали, ели шашлык измазанным помадой ртом, эмигрировали и возвращались, они звонили и жаловались (только ты меня можешь понять!), они просили в долг и просто просили, им нужна была новая зубная щетка в больницу, ласты в отпуск, лекарства хемомицин и но-шпа, и он, восхищенный ими когда-то почти до обморока, настоящий рыцарь в доспехах из серебра с лунным камнем, должен был мчаться на белом коне, на стареньком, видавшем виды опеле куда-то к черту на куличики.
И черт его ждал, скажем, в уютном кафе в итальянском стиле, и за чашечкой чая, рюмочкой коньяка, или просто бокалом красного вина, спрашивал: сколько стихотворений посвящено этой, а той, а вот этой? А какие?
И таки да, стихи оставались, работа шла, музы свое дело знали… Только он иногда путался, что кому посвящено, и, изменив пару слов, а то и в прежнем виде, не стесняясь, посвящал стихотворение другой.
А та, что без зубов, вставила новую челюсть и явилась прямо из Европы в гости, прихватив пирожное муравейник. Он ковырялся вилкой в пирожном и был ей рад, и ждал, когда она уйдет, тогда он сядет и напишет, что любовь укутана старым шерстяным одеялом, и луна особенно круглая в эти дни, когда подкрадывается на костлявых ногах тень смерти, но ты еще удерживаешь любовь за руку, и пока эта рука теплая, ты жив. Или что-то в этом духе. А завтра воспоминание о ней он аккуратно, как любимые носки после стирки, положит в специально отведенный ящик – до следующего раза.
Иногда они умирали. Переживал он это остро и продуктивно. Погибшая муза могла подарить на прощанье целую поэму, слезы застывали, как кусочки алмазов, которые он, только он, мог превратить в настоящий бриллиант.
Но жизнь продолжалась, и тогда он на своем хромом ослике, стареньком опеле, который что-то барахлить начал совсем по-взрослому, въезжал в очередной город на главную площадь и спрашивал – вы меня ждали?
Выходили люди в белых одеждах, волосатые парни в рваных джинсах и с гитарами, открывали томики стихов, его стихов, и начинали петь.
Тогда он удовлетворенно кивал головой, мол, все правильно, можно ехать дальше, а рядом с осликом шагала стройная выносливая муза, ее длинные ресницы скрывали смущенный вниманием толпы взгляд, и, сидя на правом сидении старенького опеля, она смотрела, как лес по краям дороги становился все зеленее и зеленее.
Читать дальше