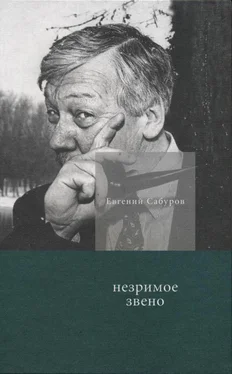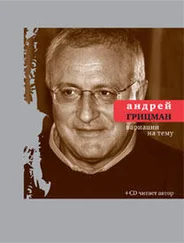Мне изо всех углов зловонные измены —
еще минута – взвоют отходную,
врачуя душу кисло-сладким пеньем.
Еще минута я тебя миную,
то розовый, то голубой архангел.
Ты мимо, я назад – еще минута.
Так сетовал я, сам собой оплакан,
когда смеющийся еврей-священник
на полтоски меня одернул нагло.
Он выговорил чин, жуя служебник,
облил меня и сунул крест латинский,
сказав: «Вы спасены святым крещеньем».
Я вышел в край, где ангелы крутились
и тот священник с животом огромным
невыносимым пламенем лучился.
И Бог приветствовал меня спокойным громом.
3.
На темный воздух, прокипевший снегом,
я, пополам сломавшись, налетел,
заворожен неосторожным бегом,
когда в меня сквозь нищую фланель
просунулся, нашаривая ребра,
нежданный лекарь – мокрая метель,
а снизу вверх заведомо недобрый,
сворачиваясь, бил под облака
тот, кем я был навеки попран:
не ветер – мука и тоска.
Вся наша жизнь лишь обученье смерти,
которая как Дух Святой легка.
И Он глядел, как я ломился в двери,
безумием органным полоща
кипящий воздух через тысячу отверстий.
«Венчается на царство, – Он кричал, – по швам
с натуги лопнувшее тело,
твоя душа венчается, треща».
И я сморкался, мокрою метелью
под вздох, осоловевший, бит навзрыд,
пока душа моя не отлетела,
пока душой, как облаком, покрыт,
двойною тайной связанный заранее
не оказался там, где жгли костры,
заботясь об усталом караване,
не в первый раз перегонявшие овец,
глядевшие на небо в ожиданьи,
и те, державшие угольник и отвес,
совсем другие, но на те же звезды
глядевшие из глубины сердец.
И я учился жить единственною просьбой,
стоящей горла поперек,
чтоб этот мир и этот мокрый воздух
сказали, наконец, что с нами Бог.
Между 1973 и 1974
1.
Не поспеть тебе теперь оттуда и досюда.
Ты попал. Как кур в ощип влип в дорогу.
Расхититель твой смотрит люто
и добро твое роет рогом.
Посреди небес из пяти колес
белой каплей вниз срам на ее губах.
Трутся всласть, выжимают злость
гуси-лебеди на твоих хлебах.
То, что жал и в снопы вязал – не доспал.
Перебегал, перехотел и на черных струях один.
Только что у чужих ворот ключом проблистать
на оставшиеся выходит дни.
Око праздно. Одни плывут
черные струи в нем.
Тать воет, подминая коленом грудь,
рану красную заливая огнем.
Не сладка смерть в чистом поле на полпути.
Но тогда зачем из пяти колес
черной тучей черную думу впустил,
черным гадом к черным гадам уполз?
Ночь без вина. Напрочь нет ничего.
Дичь да погань взрежут да восклюют.
Тонкий стон и ледащий вой
бока твои оплюют.
2.
Ни грамма жизни в нашем сердце.
За разговором цвикнешь мозгом —
пустоты в черепном корсете:
глаза – на ветер, дом – на воздух.
Все расторможено, расхлябанно, висит
рука, но лаской через город
пирог пространства мной пропорот,
и слышишь? – свист.
Во мне наращивался царь —
кувшин для лилии, и постепенно
на стенах локти и колени
мои изобразили вены
и вынесли как на базар.
Как будто рыжая река
на отмель жалкие потери,
но так же вот выносит двери
с испугу пьяная рука.
3.
Небесный красный глаз – вечерняя луна.
Гони, гони, не обращай вниманья!
Что я люблю? Что я с души снимаю?
Вечерний красный глаз – она, одна она.
Что выпало, чего еще желать,
чему еще способствовать, кружиться?
Гони, гони, не обернись. Над жизнью
вечерний красный глаз – луна, луна взошла.
4. Ода соловью
Сугубой мерою берется
самомалейшая вина
и плоский смех, и высвист плотский,
и даже выговор московский,
обливший землю тусклым воском,
обматеривший дочерна.
Да я-то тут причем? А все-таки.
Да я-то, я? А вот и ты,
когда тебе давали водки,
смотрели в рот, шли на уступки,
протягивали спичку к трубке,
а ты свое и невпротык.
Читать дальше