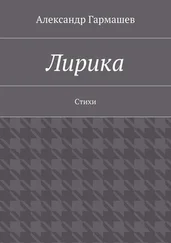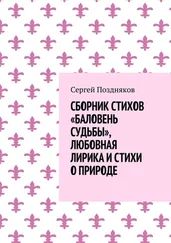Сам не вспомнишь, что же за мотив, —
напоешь, не думая о том.
Песенка, удары отразив,
обернет невидимым щитом.
А в моих краях – снега да лед,
и кругом метель стоит стеной.
А тебя хранит и бережет
песенка, придуманная мной.
«То ты друг сердечный, то недруг лютый…»
То ты друг сердечный, то недруг лютый,
то насмешник-бритва, а то жених.
Сорок тысяч братьев меня не любят,
ты один не любишь сильнее них.
Приводил к реке, где спокойна заводь,
где сквозь ветви ивы видна вода.
Обещал, что к лету научишь плавать.
Посмотрелась в реку – бледна, худа…
Разве я понравлюсь кому такая —
влет, по-настоящему, наяву?
Стылая вода по лицу стекает.
Я плыву, ты видишь? Смотри, плыву!
«Так ждала «сдай билет и останься…»
Так ждала «сдай билет и останься»…
Нет – так нет. И ни слез, ни обид, —
лишь в тревожно танцующих пальцах
непослушная пряжка звенит,
лишь под громкое boarding completed
отключу телефон. Насовсем.
Все разбито, забыто, зарыто.
Да, такси заказала. На семь.
Наспех кинула в сумку все вещи
да со вкусом спалила тетрадь.
И никто никому не обещан.
Спинку выпрямить, столик убрать.
«Путь начертан, да нам неведом…»
Путь начертан, да нам неведом.
Я не вместе – я рядом, следом.
В зной безводный, в метель лихую
стерегу, берегу, страхую.
Зубы стиснула и не ною.
Я не об руку – за спиною.
«Уезжай, не оставайся ни дня…»
Уезжай, не оставайся ни дня:
день прошляпишь – пропадешь навсегда.
Скорым поездом «Париж – Усть-Тырня»,
скорым поездом «не там – не туда».
Не оглядывайся. Только вперед.
Чай купи – а больше нет ни рубля.
Стукни ложкой, и стакан пропоет
эталонное хрустальное ля.
Рельсы-шпалы, вдоль путей тополя,
в подстаканнике трепещущий чай.
С новой строчки, с безупречного ля, —
соберись, хоть в этот раз не слажай.
Мурлычь хабанеру, бросай солдатне цветок, —
пусть взор оторвут от худых загорелых ног
и жадно сглотнут.
А где-то вдали по тебе наточили нож.
Ты знаешь, ты чувствуешь это. Да ну и что ж,
пока подождут.
Танцуй, с кем успеешь, – и с этим, и с тем, и с тем.
Не знает краев, границ, берегов и стен
прямая душа.
И танец пылает, и наземь летит цветок,
и ближе твой нож, и острей по тебе клинок,
и слаще дышать.
«Ни минуты заветной, ни часа, ни дня, …»
Ни минуты заветной, ни часа, ни дня, —
Перед богом-людьми не признаешь меня.
Но крапленою картой держи в рукаве
И постыдною мыслью крути в голове,
И отчаянным словом – рубя и грубя,
И последним патроном – на край, для себя.
«Отболит, затянется, присохнет, …»
Отболит, затянется, присохнет, —
хватит ныть, что вся в соплях-крови.
Сколько раз уже хотела сдохнуть?
Выплыла. И в этот раз плыви.
Ничего, что лет давно не двадцать, —
силы есть, упрямства через край.
Выплывешь, куда тебе деваться?
Все, что вниз тянуло, убирай:
спрятать, закопать, засыпать яму,
и – вперед, былого не храня.
Если б каждый оставлял по шраму —
было бы три шрама у меня.
«Ни напиться нельзя, ни отпеться, …»
Ни напиться нельзя, ни отпеться, —
нет ни песен тебе, ни воды.
Беззащитное звонкое сердце
каждый миг ожидает беды:
замирает, дрожит бестолково.
Что трепещешь? Скажи, почему
я не просто по первому зову —
я без зова бросаюсь к нему?
Так беспомощно и безоглядно
рвусь в спокойный надежный уют —
где не страшно, где вместе и рядом,
где напоят и где отпоют.
Вальсируя, маски кружили,
и, как ни бурлил карнавал, —
по алым пылающим крыльям
всегда ты меня узнавал.
Потрепаны, наживо шиты, —
вон пластырь да след от иглы.
Прости меня, мой подзащитный,
что крылья совсем не белы.
Победы на грани провала,
летучая легкая прыть…
Я алыми так укрывала,
как белыми в жизнь не укрыть.
…а ангелы все белокуры,
все розы там да соловьи…
Из содранной заживо шкуры
кровавые крылья мои.
«А под утро сдавит тревожный сон…»
А под утро сдавит тревожный сон:
пережить твоих и подруг, и жен, —
и пойти на край, и зайти за край,
и услышать: «Ладно уж, забирай»,
и увидеть – в небе дрожит заря.
Все пути-дороги прошла не зря…
Усмехнуться ангелу-трубачу:
Читать дальше