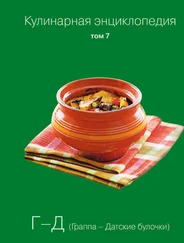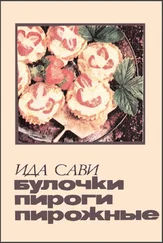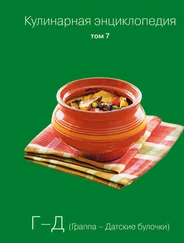Спасибо медсестре. Помогла понять. Теперь знаю. Эта высотная фобия у меня с четырёхлетнего возраста. Теперь знаю – откуда… Это когда-то, снисходительно улыбнувшись, судьба открыла счёт четырёхлетнему мне: «Один – ноль. В твою пользу. Учти».
* * *
Мы живём в пятиэтажке на последнем этаже. Я не слишком компанейский мальчишка, а раз такой – ты часто сидишь в квартире и там находишь себе занятия. Предоставленный сам себе, бывало, шкодничаешь. Водяные «бомбочки» кидаешь в прохожих, а то и куриного яйца не жалеешь. Швырнёшь, трусливо не целясь, быстро присядешь на корточки, затаишься с головой, и наблюдаешь в щелку балконной обшивки, как прохожие хмурятся и высматривают, задрав головы, с какого балкона это прилетело. А ты таишься, а самого аж трясёт и распирает от под-лючести происходящего, в животе коловоротит и урчит страх, ведь запросто могли заметить, с какого балкона прилетело. И душит беззвучный хохот, что не целился и – попал, и хохотно, что точно не заметили.
Или – заберёшься с ногами на табуретку, высунешься с балкона подальше, грудью ляжешь на балконную перекладину, и лежишь так подооолгу, столько, что рубашкины пуговицы в коже отпечатаются, и потом час-другой на груди краснеют медальками, и пускаешь длииинную такую слюну, дооолгую, и обязательно важно видеть (с пятого-то этажа!), как внизу на асфальте твоё слюнявое пятно становится всё отчётливее и крупнее. А уж если безветренный день выдался, то – вообще хорошо! Тогда пускаешь себе слюни, пускаешь, а далеко внизу растёт, растёт твоё пятно, а ты дууумаешь. Думаешь о чём-то своём, о детском, и, конечно же, несерьёзном, как само занятие – пускание слюней четырёхлетним ребенком с балкона пятого этажа. Или вообще ничего не думаешь, и ноги уже затекли от стояния на табуретке, и грудь больно расплющило о перекладину, а ты всё стоишь и стоишь, и пускаешь слюни на асфальт. И – прострация, и – отрешение, и – нирвана.
…Когда тишину за моей спиной взорвал дверной звонок, лужа из слюней на асфальте была уже основательной. А звонок у нас был почему-то именно такой – он не звонил, а взрывал тишину. Или разрывал сон. Звонок в эту секунду был настолько неожиданным, что, показалось, взорвал каждую мою безмятежную детскую клеточку. Он просто-таки содрогнул своей неожиданностью, и от этой неожиданности детские ноги вихлянули на табуретке, и она, без того колченогая от своей древности, вдруг резко качнулась назад, а я – как кукушка из часов – по инерции вынырнул далеко за балконные перила… Выкинул себя в улицу, в пустоту, в опасность, в смерть.
Прошло уже десятки лет с большим плюсом, а я всё ещё отчетливо помню первую обжигающую уверенность, что – я падаю на асфальт, что – я лечу вниз, и даже слюнявое пятно, показалось, начало приближаться быстро-быстро… Но табуретка каким-то чудом вильнула, упала и покатилась по балкону налево, а я повалился направо. С животным костяным хрустом я шваркнулся виском о железные перила, а мои руки – одна вдогонку за другой – хлестанули по ветхим струнам натянутых бельевых веревок… Не знаю, но отчего-то ни верёвки, ни балконная перекладина не захотели смерти четырёхлетнего меня. Они отпихнули мальчишку. В падении меня развернуло на спину, и я даже увидел, как высоко-высоко синькнуло небо, – и небо действительно синькнуло, потому что крыши-козырьки на балконах тогда могла позволить далеко не всякая советская семья, вот и у нас не было такой роскоши над головой, – и я брякнулся на деревянный балконный пол, пребольно ударившись коленом о цементный порог.
Прошло уже десятки лет с большим плюсом, а я всё ещё отчетливо помню щербинки на деревянном полу балкона, помню облупившуюся половую краску, какие-то мусоринки, помню подсолнечное семя, спрятавшееся в щели между досками… Не хотелось шевелиться. Лежал и смотрел перед собой. Долго. О чудесном спасении не думал. Кто думает о таких глупостях в четыре года? Просто лежал, тихо-тихо ревел и ногтём царапал половую доску, что впитывала мои слёзы. Следы от ногтя получались неглубокие, но их было много, и это отвлекало. Дерево, тысячи раз намокавшее от дождя и снега, в первый раз мокло от детских слёз, и, видимо, чтобы сгладить необычность момента, не ныряло занозами под детский ноготь, а щедро покрывалось рубцами и словно бы успокаивало: «Ну, ладно. Ладно. Один – ноль же. В твою!».
* * *
Никакого утра в реанимации нет. Есть рваное, маетное, болезненное, ошарашивающее, и при этом желанное продолжение раздёрганной потной ночи с её негасимым дежурным освещением, с мелким-мелким шарканьем медсестринских тапочек, с паутиной новых капельниц и перезвоном пробирок, шприцов и поддонов.
Читать дальше