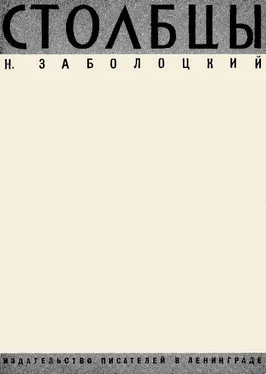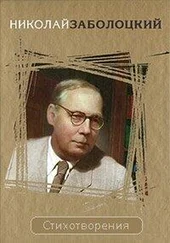Тут тесто, вырвав квашен днище,
как лютый зверь в пекарне рыщет,
ползет, клубится, глотку давит,
огромным рылом стену трет;
стена трещит: она не в праве
остановить победный ход.
Уж воют вздернутые бревна,
но вот — через туман и дождь,
подняв фонарь шестиугольный,
ударил в сковороду вождь, —
и хлебопеки сквозь туман,
как будто идолы в тиарах,
летят, играя на цимбалах
кастрюль неведомый канкан.
Как изукрашенные стяги,
лопаты ходят тяжело
и теста ровные корчаги
плывут в квадратное жерло.
И в этой красной от натуги
пещере всех метаморфоз
младенец-хлеб приподнял руки
и слово стройно произнес.
И пекарь огненной трубой
трубил о нем во мрак ночной.
А печь, наследника родив
и стройное поправив чрево,
стоит стыдливая, как дева
с ночною розой на груди.
И кот, в почетном сидя месте,
усталой лапкой рыльце крестит,
зловонным хвостиком вертит,
потом кувшинчиком сидит.
Сидит-сидит и улыбнется,
и вдруг исчез. Одно болотце
осталось в глиняном полу.
И утро выплыло в углу.
Апр. 1928
В моем окне — на весь квартал
Обводный царствует канал.
Ломовики как падишахи,
коня запутав медью блях,
идут закутаны в рубахи,
с нелепой важностью нерях.
Вокруг — пивные встали в ряд,
ломовики в пивных сидят
и в окна конских морд толпа
глядит, мотаясь у столба,
и в окна конских морд собор
глядит, поставленный в упор.
А там за ним, за морд собором,
течет толпа на полверсты,
кричат слепцы блестящим хором,
стальные вытянув персты.
Маклак штаны на воздух мечет,
ладонью бьет, поет как кречет:
маклак — владыка всех штанов,
ему подвластен ход миров,
ему подвластно толп движенье,
толпу томит штанов круженье,
и вот — она, забывши честь,
стоит, не в силах глаз отвесть,
вся — прелесть и изнеможенье!
Кричи, маклак, свисти уродом,
мечи штаны под облака!
Но перед сомкнутым народом
иная движется река:
один — сапог несет на блюде,
другой — поет собачку-пудель,
а третий, грозен и румян,
в кастрюлю бьет как в барабан.
И нету сил держаться боле:
толпа в плену, толпа в неволе,
толпа лунатиком идет,
ладони вытянув вперед.
А вкруг — черны заводов замки,
высок под облаком гудок,
и вот опять идут мустанги
на колоннаде пышных ног.
И воют жалобно телеги,
и плещет взорванная грязь,
и над каналом спят калеки,
к пустым бутылкам прислонясь.
Июнь 1928
Закинув дудку на плечо
как змея, как сирену,
с которой он теперь течет
пешком, томясь, в геенну,
в которой — рев, в которой — рык
и пятаков летанье золотое —
так вышел музыкант-старик.
За ним бежали двое.
Один — сжимая скрипки тень,
как листиком махал ей;
он был горбатик, разночинец, шаромыжка
с большими щупальцами рук,
его вспотевшие подмышки
протяжный издавали звук.
Другой был дядя и борец
и чемпион гитары —
огромный нес в руках крестец
с роскошной песнею Тамары.
На том крестце — семь струн железных,
и семь валов, и семь колков,
рукой построены полезной,
болтались в виде уголков.
На стогнах солнце опускалось,
неслись извозчики гурьбой,
как бы фигуры пошехонцев
на волокнистых лошадях;
а змей в колодце среди окон
развился вдруг как медный локон,
взметнулся вверх тупым жерлом
и вдруг — завыл… Глухим орлом
был первый звук. Он, грохнув, пал;
за ним второй орел предстал;
орлы в кукушек превращались,
кукушки в точки уменьшались,
и точки, горло сжав в комок,
упали в окна всех домов.
Тогда горбатик скрипочку
приплюснув подбородком,
слепил перстом улыбочку
на личике коротком
и, визгнув поперечиной
по маленьким струнáм,
заплакал — искалеченный —
ти-лим-там-там.
Система тронулась в порядке,
качались знаки вымысла,
и каждый слушатель украдкой
слезою чистой вымылся,
когда на подоконниках
средь музыки и грохота
легла толпа поклонников
в подштанниках и кофтах.
Но богослов житейской страсти
и чемпион гитары
подъял крестец, поправил части
и с песней нежною Тамары
уста тихонько растворил.
И все умолкло…
Звук самодержавный,
глухой как шум Куры,
роскошный как мечта,
пронесся…
И в звуке том — Тамара, сняв штаны,
лежала на кавказском ложе,
сиял поток раздвоенной спины,
и юноши стояли тоже.
И юноши стояли,
махали руками,
и стр-растные дикие звуки
всю ночь р-раздавалися там!!!
Ти-лим-там-там!
Читать дальше