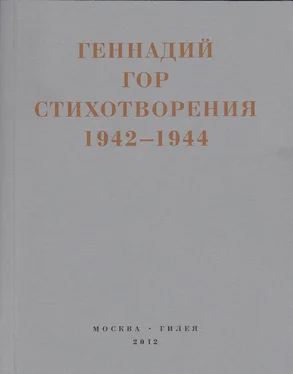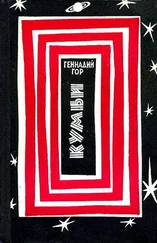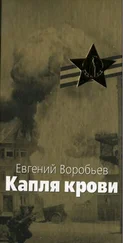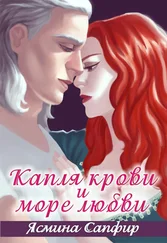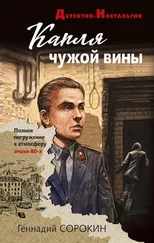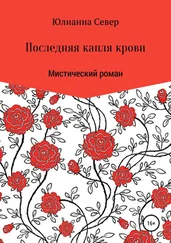Стихи Гора – не только уникальный документ, феномен личной судьбы, «конспект ненаписанного», значительно осложняющий биографический профиль автора, но и литературный факт, обнажающий особый механизм наследования традиции, малоизвестную связь распавшихся, казалось бы, времён [5] «Первым большим поэтом “ленинградского неомодерна”» назвал Гора Олег Юрьев (см. его статью, содержащую ряд существенных замечаний о поэзии Гора, в разделе Библиография).
. Чем бы ни была обусловлена их тёмная, малопонятная форма, она имеет свою историю и источники, не назвать которые невозможно.
В 1942 году, спустя всего несколько месяцев после смерти Даниила Хармса, Геннадий Гор стал одним из первых унаследовавших поэтический арсенал обэриутов. Причудливые синтаксис и грамматика, неожиданные лексические сочетания, «столбцовая» строфика, минимальная пунктуация – не только эти формальные характеристики прямо указывают на наследие Хармса и Введенского, отчасти Заболоцкого и Олейникова [6] Повышенное «интертекстуальное напряжение» поэзии Гора позволяет продолжить этот ряд не только участниками ОБЭРПУ, однако их роль представляется первостепенной.
. Зловещие старухи, мрачные дворники, игривые девушки, комичные Гоголь и Пушкин, неожиданные перемещения и превращения – в стихах Гора можно встретить большинство персонажей поэзии Хармса начала 30-х годов (именно тогда у Гора и была возможность с нею всерьёз познакомиться [7] Некоторые стихотворения Хармса этого периода известны именно в списках Гора.
). Не составит большого труда привести исчерпывающий список общих мест, если только подразумевать под ними не цитаты и реминисценции (их локализовать как раз сложнее из-за внешней фрагментарности, алогичности обэриутской поэтики), а концептуальные составляющие поэтического универсума. Ключевая тема времени в поэзии Гора неизбежно вызывает образы движения и текучести (противопоставленной «мёртвой» воде, утоплению), которые, в свою очередь, порождают целый бестиарий оборотней; смерть (как конец времени) рифмуется со сном, а обращение времени вспять апеллирует к мифологической картине мира и натурфилософии, имплицитно выраженной в сценах столкновения цивилизации с природой. Время сжимается, ускоряется – и обнажает казуальную взаимосвязанность событий, или, напротив, останавливается, порождая бессмыслицу и хаос. Используя все самые заметные элементы поэтики ОБЭРИУ, Геннадий Гор как бы обнажает внутреннюю упорядоченность и всеобщую взаимосвязанность столь различных её составляющих.
Методику обэриутов, ставивших перед собой задачу «поэтической критики языка» и, шире, восприятия, Гор использовал с иной целью, объединив десятки текстов субъектом речи, напряжённым говорением от первого лица [8] Строго провести теоретическую границу между лирическим субъектом, лирическим героем и ролевой лирикой в этом случае сложно, да и едва ли необходимо. Можно даже предположить, что стихи представляют собой своеобразную «полифонию» голосов многих безымянных персонажей – так часто меняются имена возлюбленных и близких, места действия, судьба самого героя, умирающего разными смертями, и т. п.
. В отличие от поздних произведений Введенского, также проникнутых общим субъективным началом, «я» Гора обладает исторической – временной, пространственной, событийной – конкретностью. Это, в свою очередь, означает, что в стихах как основа координат заложено соотношение «нормального» и «ненормального»: не везде прямо названные, война и блокада присутствуют как чудовищное отклонение от естественного течения жизни – не конкретной, но отчуждённой – в глазах невольного свидетеля и соучастника. Качественным развитием той поэзии ОБЭРИУ, которая была известна Гору, стало перенесение абсурдирующего начала в пределы отдельного сознания. Временные и пространственные парадоксы, полиморфизм всего, что попадает в поле зрения героя, нарушение логических и причинно-следственных связей – в стихах Гора всё это становится не способом «обнажения смыслов», но знаком войны в её негосударственном и внеисторическом выражении, следствием всеобщей онтологической катастрофы, обрушившейся на мир и на человека. Хотя Гор и менее радикален, и куда менее последователен в отстаивании идеалов «левого искусства», чем Введенский и Хармс, в какой-то степени эти стихи оказываются ответом русского поэтического авангарда на войну, испытанием и обоснованием его языка в новых обстоятельствах.
Читать дальше