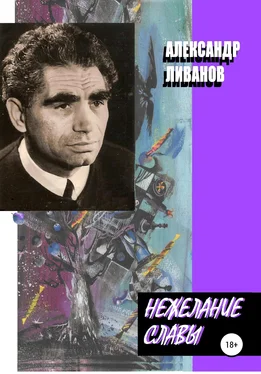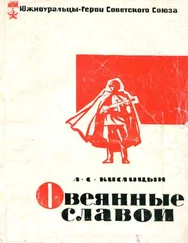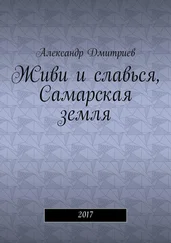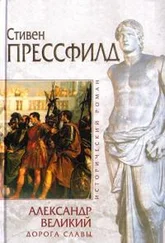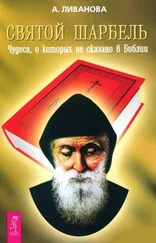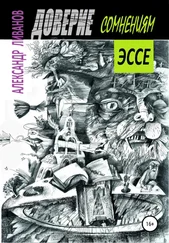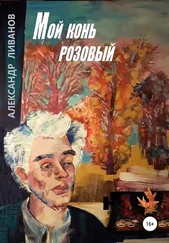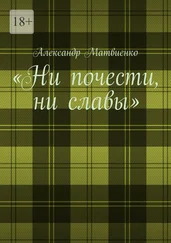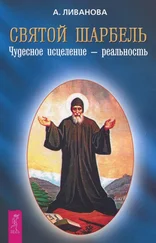В конце рассказа Никитин решает бежать от вязкой, засасывающей пошлости Шелестовых… Мы не знаем, на что он употребит бегство. Но в этом уповающем бегстве – начало и залог становления подлинной интеллигентности Никитина. Мир шелестовых заставляет каждого сделать выбор. Так – медленно, но неизбежно – эстетик дозревает до этики. А там, вероятно, до борьбы, до классовой ее разгневанности…
В рассказе очень характерная чеховская изобразительность – ничего «внешнего» и «броского», ни самоцельности, ни подчеркнутости: все «как жизнь». Доверие к читателю, чтоб тот без подсказки, точно полотно реалиста, чуждого мелочного и нетерпеливого субъективизма, сам все додумал… И во всем – двойная тайна – личности художника, и личностного его искусства. Слова – те же краски, та же живопись, те же тысячи нюансов «незримой образности»!
И лишь неопытному, повторяем, читателю кажется, что текст (романа, повести, рассказа) состоит из отдельных «мест», что-то здесь неинтересно, можно это «пропустить», состоит из частей «художественности» и «нехудожественности»…
Нескоро еще к такому читателю придет чувство единого и цельного мира писательской поэзии, той творческой законченности, где, как говорится, «ни прибавить, ни отбавить»…
И эту удивительную цельность мы потом недаром называем не просто – «завершенностью», а – совершенством!
Гоголевский «Ревизор», главный образ – Хлестаков… Сколько сценических воплощений, сколько великих и выдающихся артистов лепили «своего» Хлестакова! Сколько написано об этом самом веселом образе Гоголя, который, кажется, главным образом, привел самого Гоголя, затем и Пушкина, в удручение: как печальна Россия!..
Хлестаков представляется неким Акакием Акакиевичем наизнанку. Если Башмачкин весь – внутренний пафос массового, мелкого чиновничества, его честная, здоровая, «демократичная основа», где служба стремится к труду, уж если не дано ей стать – служением, то Хлестаков – ее внешний пафос, риторика, самоупоение, показное важничание, желание казаться значительным, уж если не дано быть значительным по сути своей. По существу, и в Башмачкине, и в Хлестакове еще много здоровых, народных, начал… Если Башмачкин – в экстренной ситуации – силится осмыслить свое положение, осознать свои отношения с обществом и впадает в глубокое удручение, то Хлестаков – это внешнее, риторичное, клокотание мелко-чиновнического служивого пафоса. Жулик ли Хлестаков? Ничуть ни бывало. Он весь подражательность и эпигонство чиновничьей вторичности. Ему кажется, что он наконец дорвался до высокого чиновного положения и старается соответствовать. Он сам в упоении от своего «образца» – и врет, воздавая ему дань! Если Санчо, из романа М. Сервантеса, в положении губернатора остается верен себе, Хлестаков в положении важного чиновника, забывает себя, стараясь полностью перевоплотиться в этого чиновника. Хлестаков оказался бы тем же, возможно, Башмачкиным, если б его не приняли за важного чиновника в гостинице. Хлестаков не столько жульничает, сколько принимает «правила игры», предложенные ему городничим!..
Автоматизм подлости одних, бездумная беспечность и «упоение» других, – или Башмачкин, который этой жизнью – обречен. Как в конце «Мертвых душ» будет обречено уже совсем активное начало в капитане Копейкине… Нуль в Петербурге, и величина в провинции!
То есть жизнь, которая создана для подлости одних (от городничего до «берущих борзыми щенками»), не может в других, уже самим инстинктом, не поощрять… бездумное упоение этой жизнью! Только так можно уцелеть, не выломиться из нее в Башмачкиных…
Башмачкины и Хлестаковы – некая дальнейшая социальная дифференциация, развитие начал пушкинского Евгения из «Медного всадника».
Вот, видимо, что надо иметь в виду в гоголевской образной фразе о Хлестакове: «легкость в мыслях необыкновенная!».
В этой фразе – Хлестаков весь, с редкостной полнотой как человеческой, так и образно-общественной сущности. Воплощение же образа, видимо, зависит от того – сколько дано актеру и режиссеру взять из этой гоголевской фразы. Вот почему образ (роль) и «легкий», когда акцент делается на внешности, на «легкости в мыслях», вот почему он трудный, творческий, глубинно-художественный, когда делается усилие вскрыть генезис – почему «легкость в мыслях», в чем их причина, какая здесь связь с современным обществом, с его устройством, с его почти мистической психологией…
Читать дальше