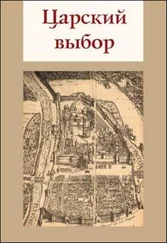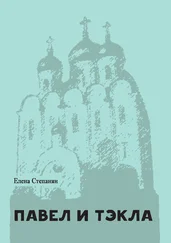Родителям внушают психиатры,
Что он в подземном этом царстве ищет
Забвенья,
От реальности уходит.
Если хотите – форма наркомании.
Ну это разве что про вас самих!
Не вы ли сами
Всю жизнь
Исходите самообманом,
Друг с другом состязаясь исступленно
В своих олимпиадах бесконечных,
Когда за все про все
Одна награда – смерть.
Но если он заявит это вслух,
Его в психушку упекут в два счета.
Не лыком шит!
Предпочитает он
Отмалчиваться, глядя исподлобья.
Однако знает он, где распустить язык,
И понаслушаться, и поднабраться
Такого, отчего приличным людям впору
Из кресел вывалиться на паркет.
Зато здесь самому себе никто не лжет,
И слово «смерть» у них не под запретом.
Наоборот, оно нередкий гость
В их разговорах.
С толком и со смаком
Они часами могут рассуждать
О разных способах самоубийства,
А понижая голос, и о том —
Как убивать.
Без жалости и риска.
Они любовью к жизни не пылают,
И целый мир в обидчиках у них.
Один на днях рассказывал со смехом,
Как мать его базарила по пьянке
И громко жаловалась, матерясь,
Что вот
Она пятнадцать сделала абортов,
А все не те!
И вот теперь кормить
Ей подлеца приходится такого.
И все с ней соглашались, что, конечно,
Она дала промашку,
А ему
Весьма не повезло.
Не то что тем пятнадцати!
Отцы и братья старшие сидят,
И перспектива – вся как на ладони.
Подвал не даст соврать.
А выше этажом
Еще поют про яблони на Марсе.
. . . . . . . . . . .
И он здесь свой среди своих. И это
Почти невероятно.
Точно так же
Не может он понять, зачем и как
В своей родной семье он оказался.
Отец при Сталине – и то не сел,
Хоть был всегда начальником.
А мать!
Да ей, наверно, непристойных слов
И слышать никогда не приходилось.
И братец – так талантлив и учен!
Того гляди – вторым Эйнштейном станет.
(Он первого Эйнштейна пристрелил бы,
Да очень вовремя тот помер сам).
Прекрасная еврейская семья.
И он один – ее несчастье, стыд,
Угрюмый бездарь, черная дыра.
И все равно они его жалеют,
Из школы в школу переводят,
Просят —
В который раз!..
Швыряет гневный завуч
Перед отцом тетрадку с сочиненьем.
Ошибки в каждом слове!
Почерк жуткий!
А пишет он не много и не мало,
Что очень глупо поступил Онегин,
Не дав себя убить на той дуэли.
А ведь прекрасный был бы вариант
Для Ленского, и Ольги, и Татьяны.
И сам Онегин был бы рад и счастлив,
Поскольку жить охоты не имел.
И это в год, когда идет страна
К пятидесятой славной годовщине!
Ну разве же за это —
Вот за это?! —
Боролись мы в семнадцатом году?!
Отец, глаза смущенно отводя, —
В который раз! —
Все то же повторяет:
Что много лет назад, когда он был
В весьма ответственной командировке,
Жена – на пятом месяце тогда —
Попала на Лубянку по ошибке.
И хоть ошибка сразу разъяснилась,
И в тот же день она ушла домой,
И перед ней полковник извинился
По меньшей мере двадцать раз,
Но ужас всех застенков,
Лагерей,
Всех пересыльных тюрем
И этапов
На мозг младенца отпечатком лег,
И он таким, какой он есть, родился.
. . . . . . . . . . .
И вот на площади Преображенской
Стоит он,
И над ним бушует свет,
Какого он до этого не видел
Ни разу,
Ни во сне, ни наяву.
– Простите, мне сегодня не до школы!
Все небо в разноцветных облаках.
И он пойдет туда, куда они
Его ведут.
На рынок – так на рынок.
Но через рынок,
В эту рань безлюдный,
Он пролетает, словно на коньках,
И упирается в кладбищенскую стену.
Нет, кладбище сегодня ни к чему.
Туда всегда успеется.
А справа —
Распахнуты огромные ворота,
И там, за ними – церковь под крестами [5].
Он обошел ее кругом, взрыхляя снег.
А возле колокольни,
У ограды,
Стояли двое, явно деревенских —
Мужик и баба,
И между собой
О чем-то спорили.
И страшно захотелось
Ему подслушать этот разговор.
Мужик в тулупе, в длинных сапогах,
Огромною обросший бородою,
Напористо и с жаром говорил:
– Сей город есть духовный Вавилон,
Вертеп убийц, лжецов и чародеев.
Мильоны душ прошли через него,
Которые с рожденья и до смерти
Ни разу не помыслили о Том,
Кто им дарует жизнь, и хлеб, и воздух.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу