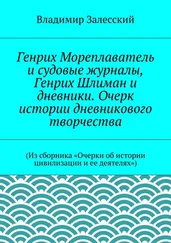Страна галантных перехлёстов,
твоя столица всех столиц,
как перекрытый перекрёсток
до дыр зачитанных страниц.
Милана мрамор, камень Кёльна,
моим зрачкам не отражать
уколов готики игольной
с закатной розой витража.
Не замереть под капителью
и небом тем не занемочь,
где боги русые смотрели,
как становилась все смуглее
и непонятнее их дочь.
Не поплыву по водам Влтавы,
склонясь к ним с Карлова моста;
и под каштанами Варшавы
ее певучести шершавость
не научусь читать с листа.
Ни в Зальцбург, ни в раёк Ла Скала
не проложу я свой маршрут.
О страннике мне спой, Дискау,
пусть не находит он приют.
Вершись, мой замысел громоздкий.
На трех китах тисненый круг.
Кудрявь струистые бороздки
алмазным клювом, птица Рух!
А гринвичский зачин Биг-Бэна
разложит мне на голоса
больными бронхами антенны
все часовые пояса.
Страна моя, твой вал зубчатый
костями подданных хрустит,
и чтó там стыд семи печатей,
семи провалов Атлантид.
Монаршья вечная растрава,
параноические сны.
Расширенный зрачок госстраха
пред сонмом беглых крепостных.
Вольнó тебе собой гордиться:
шестая часть – отделена!
И в каждое окно глядится
твоя колючая граница,
твоя китайская стена.
1971
Из цикла «Концами строчек»
Не залпы платьев, не заплат
зелено-желтое удушье —
на девушке был детский плащ,
и ход событий был нарушен.
Он верх одерживал шутя,
он на ладонь был выше юбки,
и шли за ним его поступки
бесхитростные, как дитя.
Под перекрестьями окон
он мог, раскованный, как ветер,
гусарить в уличном балете
гусиным шагом при лафете
из протокольных похорон.
Он шел на канонадный гул
и посвистам не клал поклоны.
Он пальцем не пошевельнул,
Когда я взял ее ладони.
И мне ли старому бойцу
затейных пламенных баталий —
и не к лицу, и не к венцу,
и отпуск близится к концу,
и всё больнее, и так далее.
Но с телефонной хрипотцой
ее встревоженного «Где вы?»
по-прежнему созвездьем Девы
веснушки крапили лицо.
Кура неслась, рукоплеща,
и ветер шевелил аншлаги.
Шел май с цветами и прельщал
рисковым счастьем в полушаге.
У изголовья сел, на белом
снегу,
взяла ладонь мою себе
под щеку.
Наказ бессонниц был беспечен —
врачуй!
Концами пальцев – от предплечья
к плечу.
Грозило сердце достучаться,
спросить.
Косяк глазами домочадцев
косил.
И свет усиливал сигнал
голосов
и половицы рассекал
полосой.
Пять струн сводили все немоты
в одну —
в разрыв годов, в разлом длинноты
шагнул.
Ожогом губ ловил пять струек
ветров,
мизинец инеем приструнил —
не тронь.
Ознобом магм, на всех наречиях
бездн,
кострами гор лечу в предплечья
небес —
где локтя млечная излука,
и сонь,
где звезды падают без звука
в ладонь.
И край тахты играл провалом
пружин —
манил, как страж, как зазывала,
страшил.
И были губы близко-близко
к губам.
И светофорил скресток рисков —
убавь!
Одним касанием дыханья,
едва —
уснувших ледников молчанье,
и – рва.
Концами строчек – от предплечья
к плечу
твоих возлюбленных предтечей
лечу.
Пусть первенец вторых пришествий
твой лед
следами этих путешествий
прольет.
Пускай – всем лавам вопреки —
на щеку,
на приворот его руки —
ручейку.
Пускай – до розовой тряпицы
в окне —
пускай ему все это снится —
не мне.
Наказ бессонниц был беспечен —
болей!
Концами рек – на всех наречьях
морей.
Когда житьё не клеится —
развлечься и рассеяться.
А если заболеется —
Хоть начитаться всласть.
Мне хочется надеяться,
что хворь твоя – безделица,
случайная пришелица,
недолгая напасть.
В какое имя дымное,
как в платье древних римлянок —
торжественное, длинное,
она облачена?
Латынью этой выспренней
приравненная к истине,
понятна ли таинственна ли
для тебя она?
Легко ли засыпается,
когда глаза слипаются
и в забытьё врываются
ночные голоса?
Читать дальше