Под молодыми дубками в парке Николай Николаевич подобрал большой, разлапистый лист, на его желто-коричневом пергаменте написал: «Сон. 8 октября, 200… года. Ира». Положил ей на кафедру в библиографическом отделе… И так прошел весь день. И на другой день он искал, ждал ее, и опять томил неотступный страх, что она вернулась к мужу или любезничает с отставным прапорщиком. Его пристроили завхозом или «заведующим технической частью музея-заповедника», как он сам себя называет. Николаю Николаевичу он с первого же разговора стал неприятен: кривоногий, косопузый, с откляченным задом. На лысине просвечивают бурые пятна, старательно прикрытые серыми, вязкими прядями, поэтому он не снимает шапку с головы. Что-то в его мнимо простодушном лице есть подленькое, нахальное, готовое, впрочем, моментально испариться, стать пустым и гладким, как доска. В разговорах он внезапно вставляет: «А как Шуберт?» Вообще-то он – человек не бесталанный: сочиняет песни и поет их под гитару на вечеринках. Лепит горшки на гончарном круге, рассуждает про астрологию…
Николай Николаевич заходил хитростью в библиографический отдел, заглядывал на кафедру. Ее все не было. За три дня дубовый листок с ее именем сморщился. Николай Николаевич вспомнил, как она однажды разговаривала с Людмилой Михайловной об именах и сказала: «Смотрите, какое имя у меня мягкое!» – и по слогам произнесла, будто придавливая ладошкой каждый звук к столу: «И-ра-а!» Образовано оно от слова эйрене —мир: в древнегреческом оно женского родаи обозначает состояние противоположное войне: покой. Но Николай Николаевич, увлеченный боковым ходом своих мечтаний, ошибаясь в одной дореволюционной буковке, переводил его как вселенная.
С утра в выходной холодная, цинковая туча съела небо за Волгой, пошел первый снег, потом слякоть, ветер зашумел порывами, с подвыванием в выбитом окне чердака. И после обеда дождик сиротливо стрекотал по стеклам и просительно дребезжал по жестяному карнизу окна. Николаю Николаевичу опять стало страшно, что она вернулась к мужу. Этот навязчивый страх становился все томительней. «Или войду, – тревожился он, – а от нее осталась лишь одна тень на полотне мира, промоина, куда она ушла… И я не увижу ее никогда!» Так прошла неделя…
Николай Николаевич, случайно встретив Иру на улице, заметил, что у нее ссажена кожа на носке сапога. На другой день вечером, в библиотеке, где она, взволнованная, элегантная, на высоких каблучках представляла книгу краеведа, напомнил ей об этих, прятавшихся обычно в бытовой комнате, сапогах: «Давайте, я вам подклею – это же пустяк». «Я сегодня очень злая, не подходите ко мне!» – тихо, с непонятной улыбкой ответила Ира. Сначала он не поверил, заглядывая в ее глаза, в их теплую, зеленоватую глубину – как прогретое песчаное дно в нежных, солнечных пятнах. Только какой-то острый блик играл в них, но лицо от этого стало еще милее. Он даже не обиделся, спросил, может, у нее с детьми что-нибудь случилось? Но она невнятно ответила, что просто настроение такое, и добавила: «Годы уходят». Николай Николаевич не знал еще, что вчера его жена Любовь Николаевна откровенно, с колкими шутками рассказала Ире о его странном любовном признании.
Он весь вечер был в недоумении: ему этот перепад был непонятен. «Под ее чудесной простотой, похоже, целый океан бьется», – раздумывал мечтательно он. Так в недоумении он провел и еще один день. А на третий пришел на работу и принялся через силу за тематический план новой экспозиции. Как это уже и прежде бывало, от обиды хотел не ходить к Ире. Но, как обычно, после обеда уже был в библиотеке. В коридоре заволновался и даже перекрестился, так ему стало тревожно. Ему больших усилий стоило входить в этот небольшой зал с высоким потолком, с ящиками каталогов, с полками словарей и энциклопедий по стенам. Не дошел, свернул в кабинет к заведующей отделом: дверь была открыта.
Говорливая, маленькая, кругленькая, в черном костюме, перехваченном по талии, как кубышечка, на высоких каблуках-шпильках, только что из парка: на каждом каблучке – по пронзенному дубовому листу. Незаметно для Николая Николаевича она закрыла листком какого-то отчета старую фотографию завхоза с подписью в затейливой виньетке: «Привет с Дальнего Востока!» Отдав ей дискету с текстовками о варяге и мирянке, Николай Николаевич попросил передать ее Ирине Петровне. В это время Ира сама вошла, улыбаясь, опять усталая, бледная, с русыми локонами в черном блузоне с высоким воротом и черных брюках. Пошли в пустой читальный зал. В глазах у нее будто какая-то озабоченность. «Видимо, что-то случилось все же», – погрустнел Николай Николаевич и спросил, когда на него записали «Русскую Правду»? Оказалось, что четвертого сентября: «Тогда, значит, я и побоялся поцеловать ее, когда глаза ее улыбались и приободряли: «Можно, попробуйте»…
Читать дальше
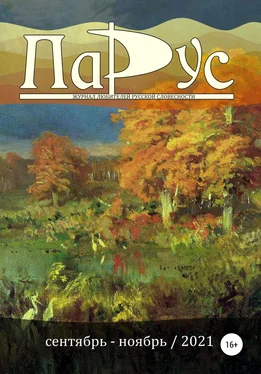

![Евгений Дрозд - Фантастика. Журнал Парус [компиляция]](/books/25342/evgenij-drozd-fantastika-zhurnal-parus-kompilyac-thumb.webp)
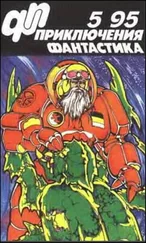




![Алексей Калугин - Города под парусами. Ветры Забвения [litres]](/books/427840/aleksej-kalugin-goroda-pod-parusami-vetry-zabveni-thumb.webp)

