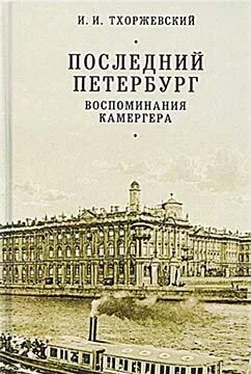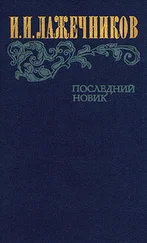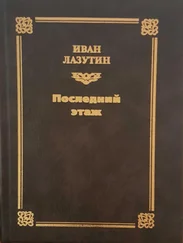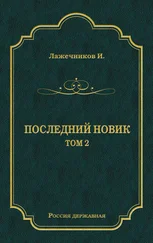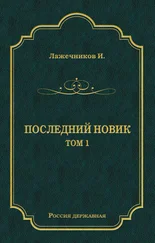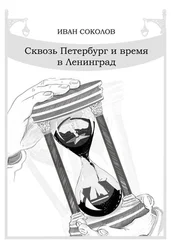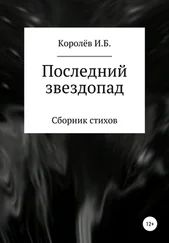Непримиримым в этом вопросе Александр Васильевич отнюдь не был. Как все тогда — колебался.
В начале августа, числа примерно 10-го, расстроенный Кривошеин сказал мне после доклада (директору канцелярии приходилось часто бывать «конфидентом» министра — в том, что выходило из рамок ведомства земледелия и относилось к общей политике; отрывистые, неохотные фразы министра не были мною тогда записаны, но запомнились, думаю, неискаженными):
— Государь решил встать во главе армии! Жутко!.. При его невезении, в разгар неудач!
— Что же, избавимся от генерала Янушкевича… Вы же так поносили его при нашем возвращении из Ставки.
— Это совершенно второстепенно. Государь… Не идет ли он прямо навстречу своей гибели?
— Так не прятаться же царю от своего жребия!
— Легкомысленное, как всегда, рассуждение, — был хмурый ответ начальства. — Петербург и Киев накануне эвакуации. Время ли выступать Государю? Удар по великому князю: смещают — после поражений! Хорошо еще, что делают кавказским наместником… Нет, нет — отложить, подумать, смягчить, ослабить удар. Сделать перемену понятной, подготовить к ней Россию и заграницу…
— Хорошенько обдумать примирительный — на прощание — рескрипт великому князю…
— Да, конечно. Но как всего этого мало, мало…
Дня через три, поздним августовским вечером, Кривошеин прямо из заседания Совета министров заехал в Английский клуб на набережной и сразу же, круто, забрал меня и увез к себе.
— Великий князь отстраняется от командования. Но мысль о рескрипте понравилась. Сазонов говорил о ней с Государем: как бы постлать соломки… Через Сазонова мне же поручено составить проект рескрипта. С таким добавлением (в котором узнаю Государя!): чтобы в рескрипте, кроме похвал великому князю, были хвалебные слова войскам кавказского фронта, во главе которых великий князь ставится. Попробуйте-ка сейчас набросать черновик, пока я отдохну от орания, своего и чужого, в Совете министров. Потом вместе поправим.
Рескрипт был составлен. Но подписан он не был и появился только дней через десять.
Что же происходило за эти несколько дней задержки?
Раскрываю том дословных записей А. Н. Яхонтова («Архив русской революции», т. XVIII). Секретные прения в Совете министров, августовские тяжелые дни…
И в душу врывается, как будто из невидимого исторического радиоаппарата, оглушительный гул, хрип и рев голосов, хорошо когда-то знакомых. Угадываешь и тембр, и интонации каждого. Голоса русских людей, мечущихся, охваченных жуткой, предсмертной тревогой за родину.
«…А старик так премудр. Когда другие ссорятся и говорят, он сидит расслабленно, с опущенной головой. Но это потому, что он понимает, что сегодня толпа воет, а завтра радуется, и что не надо дать себя унести меняющимся волнам».
Это уже не из книги Яхонтова, это из писем императрицы. Так картинно передаются Государю слова «друга» (Григория Распутина) о Горемыкине. Какой верный и замечательный образ! Он все время стоит перед глазами, пока читаешь яхонтовские записи. Вообще их надо непременно читать параллельно с письмами императрицы. Только так становится ясным многое, что было тогда неизвестно и автору записей, и министрам.
Ценность, точность и подлинность яхонтовских записей несомненны. Это не мешает им быть проникнутыми глубоким преклонением автора перед памятью Ивана Логгиновича Горемыкина. Но суждение о политическом деятеле должно быть свободно.
Лучшие воспоминания о семье Горемыкиных (дружба с сыном премьера) рисуют и мне привлекательный образ властного и умного старика, с большим достоинством, безупречной обходительностью и редкой внутренней твердостью. Историк воздаст должное и политической силе этого человека: силе сопротивления.
Твердость! Нет высшей похвалы политику и мужчине. Но и твердость, и волевое упорство не могут быть беспредметными, не должны переходить в безразличие.
Политическая роль И. Л. Горемыкина, его влияние на Государя и, в особенности, союз его с императрицей в решающие дни «перед обвалом» кажутся мне, и казались всегда, отрицательными.
Со времени роспуска первой Думы Горемыкин сохранял предубеждение против думцев. Но с тех пор многое изменилось. Дума была «укорочена» Столыпиным («по Крыжановскому»). Зато думская работа наладилась.
Этого-то правые круги никогда Столыпину и не простили! Им и Столыпин казался слишком «левым»!
Для Кривошеина сближение и работа со Столыпиным были поворотным пунктом всей его жизни. Из правого политического деятеля он стал — «центральным». Работать с Думой; во главу угла ставить хозяйственное укрепление России «снизу»; прекратить наверху междоусобицу русских образованных людей, деление их на «мы» и «они». Одновременно подавлять воинствующую революцию, силы и шансы которой явно ослабевали по мере того, как страна богатела . Такова была продолженная и разработанная Кривошеиным столыпинская традиция.
Читать дальше