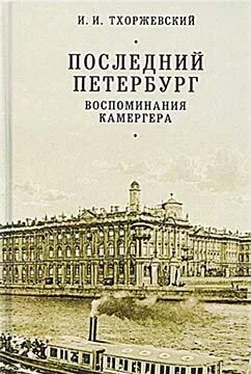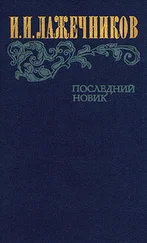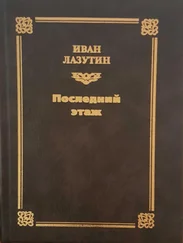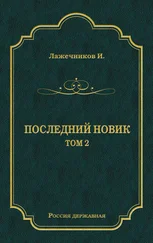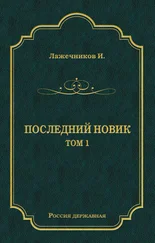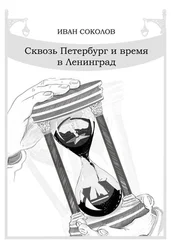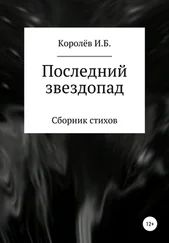Во время самого страшного из восстаний — московского, поднятого непримиримыми, крайними революционерами и подавленного только войсками, когда на улицах кипели бои, чего в эти дни требовали от государственной власти культурные и умеренные русские либералы? наши жирондисты, кадеты? — «Вывести из Москвы войска, ибо присутствие их поддерживает в населении неудовольствие и возбуждение!» Кажется невероятным, но это факт.
Ощупью Витте должен был приходить к тому, что позднее объявил уже как принцип Столыпин: «Революции — беспощадный отпор, стране — реформы». Успокаивая Государя, скоро переставшего ему вовсе верить, Витте упрямо, как вол и гигант, работал всю зиму 1905–1906 годов, но внутренне сам был подавлен и разочарован. Он вечно и все острее ощущал глубокое несходство взглядов и натуры своей и Государя Николая II.
При каждом моем дежурстве, при каждом попадавшем ко мне обмене писем между царем и его министром все яснее видел я, как прав был старый петербуржец Нольде, когда говорил: «Государь — это художник-миниатюрист, а Витте — грубый декоратор для большой публики. Такие люди не могут понять друг друга, это выше их сил!»
В Витте, при личном общении, всегда поражала казавшаяся невероятной смесь невежественного, вульгарного обывателя — и гениального дельца огромного калибра и силы, с прирожденной политической интуицией. Государь, безупречно светский, был несравненно тоньше Витте, внимателен к людям, к их психологии вообще, к оттенкам и мелочам, к форме, словам, к эстетике жизни, но зато он бывал нередко способен «из-за деревьев не видеть леса».
Витте не отрицал у Государя ни ума, ни обаятельности, ни тонкости. Но он думал по-пушкински, что и глупцы и сумасшедшие бывают иногда удивительно тонкими. Он решительно предпочитал Николаю II его отца Александра III, хотя сам же рисует его в своих мемуарах человеком умственно заурядным, но имевшим определенную и постоянную волю. В Николае II он чувствовал враждебность к себе, а стало быть, и «неверность», и, кроме того, приписывал Государю трагические и сумасбродные черты и причудливый характер Павла Первого и совершенно искренно за него боялся. Сам же он, Витте, был воплощением и своеобразным перерождением формулы: «Государство — это я!» В нем жило стихийное, смутно неразборчивое — как жизнь, но и творческое — как жизнь — ощущение власти. «Вся власть — мне! И тогда все пойдет хорошо». Таково было его единственное, но зато искреннее и глубокое «политическое убеждение».
На этом пути он, конечно, не мог не столкнуться — и все время сталкивался — с Государем, тонким, впечатлительным и ревнивым . Отношение к царю Витте вылилось в конце концов в плохо скрытую ненависть. Правда, к ненависти этой примешивалась и тревога, жуткое и пророческое предвидение того, что для Государя и для царской семьи смута может кончиться кровью.
Государь же всегда говорил про Витте: «Он отделяет себя от меня», — и это была правда. Витте, чтобы заставить Государя делать то, чего тот не хотел, чередовал при нем свою настойчивость с грубым подлаживанием и лестью. Государь видел насквозь эту игру, для него слишком примитивную, а потому считал Витте «грубым хамелеоном». Крайне им тяготясь, он не видел редких достоинств Витте, считал его врагом, кандидатом в президенты российской республики, что было уже неверно и весьма несправедливо.
Витте, полный жизненного динамизма, эстетикой отношений пренебрегал, и жизнь ему за это жестоко мстила — у Государя. Там настигала и наказывала его эта никак не дававшаяся и всячески им попиравшаяся эстетика жизни, форма человеческих отношений.
Но случалось ему делать оплошности и вне царских приемов. Столкнувшись с Советом рабочих депутатов в 1905 году, он сам, своей рукой, у себя в кабинете Зимнего дворца, писал в начале ноября воззвание к рабочим, уговаривая их прекратить забастовку. Воззвание начиналось словами: «Братцы-рабочие!» Эти «братцы» были одною из политических безвкусиц, губивших и погубивших Витте. Воззвание не имело успеха. Главари забастовки презрительно отозвались, что «рабочие ни в каком родстве с графом Витте не состоят».
Государя крайне раздражала безвкусица Витте. Оставлял его у власти только для того, чтобы Витте достал денег. Витте и удалось заключить во Франции огромный, небывалый по тому времени внешний заём, спасший тогда наше и финансовое и политическое положение.
Заключение займа было всецело личною заслугою Витте, хотя в «Истории» С. Ольденбурга неверно приписана только Коковцову и самому Государю. На деле заём в Париже провел голландский банкир Нейтцлин, находившийся в непрерывных телеграфных сношениях с Витте, который и руководил всем. Все телеграммы были шифрованными, и я на дежурствах немало возился с этим специальным и трудным шифром. Коковцов был послан, по поручению Витте, в Париж только для того, чтобы дать формальную подпись от имени русского правительства под уже готовыми условиями займа. Все, что Витте говорит об этом в своих мемуарах, сущая правда; сам Коковцов при жизни Витте никогда этого не оспаривал. Кроме того, я хорошо помню, как сменивший Витте Горемыкин в первый же день сказал мне: «Государь еле выносил Витте, терпел только потому, что без него не достали бы денег. А теперь больше не может».
Читать дальше