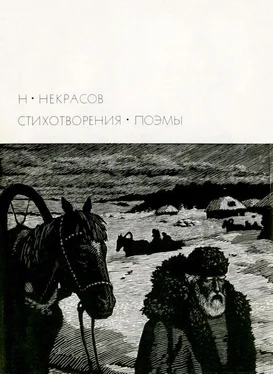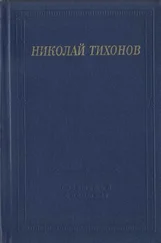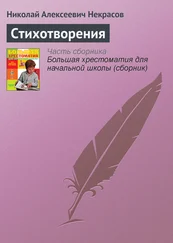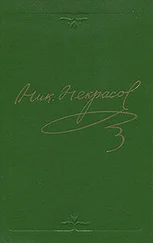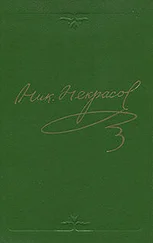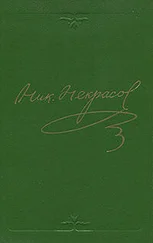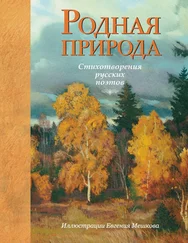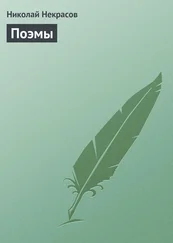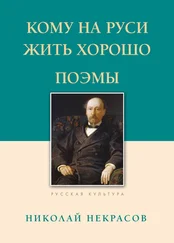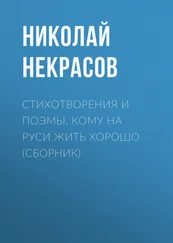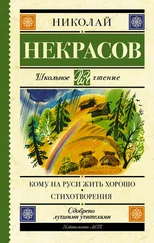Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, унынья, озлобленья
<���и проч.>.
Что это — изрядно или плохо? По совести, не умею определить…» Стихи обращены к А. Я. Панаевой, с которой поэт намеревался встретиться за границей после недолгой размолвки.
«В столицах шум, гремят витии…»(стр. 144). — В 1857 году либеральная интеллигенция обеих столиц шумно ликовала по поводу намечавшихся правительством «великих реформ». В столичных журналах стали печататься такие статьи, которые после недавних строгостей николаевской цензуры казались обывателям смелыми. На деле же все оставалось по-прежнему. Л. Н. Толстой, вернувшийся в то время из-за границы, писал (18 августа 1857 года): «В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши то же происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, М. 1949, стр. 222).
Об этом и написано стихотворение Некрасова.
Оно было предназначено для «Современника», но цензор Мацкевич дал о нем следующий отзыв: «… Стихи эти содержат в себе двойной смысл, который цензурный комитет не может себе вполне объяснить». «Благоусмотрением» Главного управления цензуры стихотворение было запрещено. Впервые появилось в печати лишь в издании «Стихотворений» 1861 года.
Тишина(стр. 144). — Некрасов, вынужденный лечиться, пробыл за границей десять месяцев. В поэме сказалась та радость, которую он испытал при возвращении из Рима на родину в июне 1857 года. Враги поэта обвиняли его в ту пору в недостатке патриотизма. На эту-то «укоризну» врагов он и ответил в «Тишине»:
…Пусть ропот укоризны
За мною по пятам бежал,
Не небесам чужой отчизны —
Я песни родине слагал!
Третья глава «Тишины» написана Некрасовым еще в Риме в декабре 1856 года как отдельное стихотворение, посвященное закончившейся незадолго до того Крымской войне.
Стр. 147. Молчит и он. — Имеется в виду Севастополь.
Бунт(стр. 149). — Возможно, что «Бунт» написан под впечатлением кровавой расправы с крестьянами, учиненной рязанским губернатором Новосильцевым в селе Мурмине в июне 1857 года. Корреспонденция об этой расправе была напечатана Герценом в «Колоколе» (1858, л. 10).
Дата написания устанавливается предположительно. В 1876 году Некрасов безуспешно пытался провести этот «Отрывок» через цензуру. При жизни Некрасова опубликован не был.
Размышления у парадного подъезда(стр. 150). — Однажды Некрасов из окна своей квартиры увидел, как от дома, где жил министр государственных имуществ М. Н. Муравьев (получивший впоследствии прозвище Вешателя за кровавое «усмирение» Польши в 1863 году), дворники и городовой прогоняли крестьян-просителей. Это послужило толчком к написанию «Размышлений у парадного подъезда».
Можно предположить, что в образе «владельца роскошных палат» отразились черты военного министра николаевской эпохи А. И. Чернышева. Весной 1857 года Некрасов видел его, доживавшего свои дни на курорте в Южной Италии. Именно к нему относятся строки Некрасова: «Созерцая, как солнце пурпурное…» (см. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, М. 1939, стр. 754). В течение пяти лет стихотворение не могло появиться в русской подцензурной печати и ходило по рукам в многочисленных списках. В 1860 году его напечатал Герцен в «Колоколе» без подписи автора, с примечанием: «Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворение нет возможности не поместить» («Колокол», 1860, л. 61, стр. 505–506). Популярность «Размышлений у парадного подъезда» в кругах передовой молодежи была очень велика. Заключительные строки, начиная стихом «Назови мне такую обитель», сделались любимой студенческой песней.
Стих «Иль, судеб повинуясь закону» — вынужденная уступка цензуре. По словам Чернышевского, первоначально была написана другая строка, более резкая (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 1, М. 1939, стр. 754). Исследователям до сих пор не удалось восстановить эту строку.
Песня Еремушке(стр. 153). — Эта песня, появившаяся во время революционного подъема 60-х годов, стала боевым лозунгом молодого демократического поколения. Добролюбов, посылая ее другу, писал: «Милейший! Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить песню Еремушке Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике»… Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости. Боже мой, сколько великолепнейших вещей мог бы написать Некрасов, если бы его не давила цензура!» (Н. Г. Чернышевский, Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, М. 1890, стр. 534).
Читать дальше