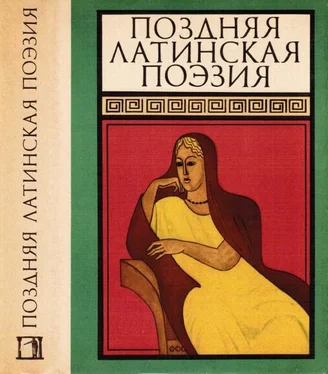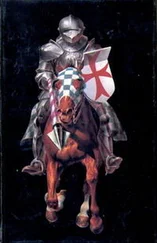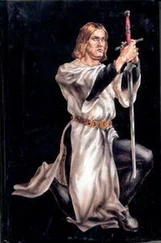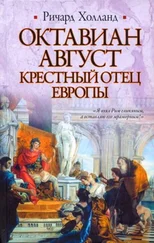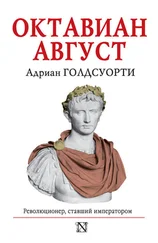Таков был жанровый репертуар поздней латинской поэзии. Испробовано было почти все, что имелось в наследии великой классики, но внимание к старым жанрам распределялось по-новому. Предпочтительная разработка малых (наиболее живучих) форм, вытеснение мифологического эпоса историческим, выдвижение в центр жанровой системы панегирических и дидактических жанров — все это тенденции, которые найдут прямое продолжение в поэзии латинского средневековья.
Мы видели, как работала словесная фабрика поздней латинской поэзии; видели, какой ассортимент изделий она производила; теперь, наконец, мы можем взглянуть, какие мастера стояли у ее станков. Среди множества безымянных или безликих авторов, чьи произведения определяют в совокупности картину эпохи, для нас все же выделяются несколько фигур, которые нам хочется называть личностями — потому ли, что в их произведениях можно угадать индивидуальные сочетания тематических и стилистических вкусов и предпочтений, потому ли просто, что они прямо сообщают в стихах что-то о своей жизни и своем характере. Таковы Авсоний, Клавдиан, Рутилий Намациан, Аполлинарий Сидоний, Драконтий, Боэтий. В этих шести именах перед нами проходят по крайней мере четыре поколения, непохожих друг на друга.
Первое поколение — это Децим Магн Авсоний (ок. 310 — ок. 394). Жизнь его заполняет почти весь IV век, творчество его связано с общей питательницей, риторической школой, теснее всего. Он был прежде всего ритором-преподавателем и прошел по этому пути до предельных высот, открывавшихся этой карьере. Родом из Бурдигалы (Бордо), большого культурного центра южной Галлии, сын известного врача, племянник еще более известного ритора, умершего придворным наставником в Константинополе, он тридцать лет преподавал грамматику и риторику в родном городе, приобрел доброе и громкое имя, и когда в 364 году власть над Западом получил император Валентиниан I («ненавидевший всех хорошо одетых, образованных, богатых и знатных», — мрачно замечает Аммиан Марцеллин), он тоже пригласил Авсония к своему трирскому двору наставником пятилетнего наследника — Грациана. Десять лет Авсоний провел при дворе, получил и придворный чин «спутника» и сенатский чин «квестора», а когда в 375 году ученик его стал императором, на него посыпались еще большие награды: и сам он, и сын его, и зять его, и даже дряхлый отец были назначены наместниками крупнейших областей Запада, и в течение четырех лет половина империи фактически была уделом Авсониева семейства (к чести римского административного аппарата, она почти не почувствовала над собой этой дилетантской власти); венцом этого величия было звание консула, самое почетное (и самое безвластное) во всей имперской иерархии, которое семидесятилетний Авсоний получил в 379 году и после которого удалился на покой в свои галльские именья. Тщеславие его было удовлетворено с избытком, к интригам он вкуса не имел, со всеми окружающими поддерживал самые добрые отношения, неустанно благодарил в стихах и прозе императора и судьбу за свою счастливую долю и смотрел на мир благодушным взглядом по заслугам награжденного человека. Времена были тревожные, почти накануне консульства Авсония произошла адрианопольская катастрофа — поражение римского войска от готов, ставшее началом конца для Западной империи, — но по безмятежным стихам Авсония догадаться об этом было бы невозможно.
В стихах Авсоний был принципиальный дилетант. Он писал их только между делом, ради собственного развлечения или ради удовольствия друзей; больших жанров среди них нет, только мелочи, которые он, однако, со вкусом циклизует. Он находил особое удовольствие в преодолении трудностей словесного материала — писал «технопегнии» на редкие в латинском языке односложные слова, «ропалические стихи» из удлинняющихся слов, макаронические стихи на смеси латинского языка с греческим, перекладывал в стихи и список римских императоров, и сомножители числа 30, и правила строения 11-сложного размера. Но этого мало. В поисках трудностей для преодоления он пошел по необычному пути: стал укладывать в стихотворные строки свою биографию, портреты отца и близких, описание своей усадьбы, своего дневного времяпровождения и проч. Это прельщало его именно как трудность, как экзотическая для римской лирики бытовая конкретность: ее эффект был отлично знаком еще безымянным сочинителям придорожных эпитафий, с трудом вмещавшим в стих громоздкие имена и звания покойников. Но для читателей нового времени художественный эффект этого неожиданно оказался совсем иным. Они, привыкшие к тому, что цель поэзии — «самовыражение», радостно увидели в Авсонии автора, умеющего открыто и искренне писать о себе, о своих впечатлениях и чувствах; романтический XIX век, отвергавший традиционную риторику и считавший позднюю латинскую поэзию «упадком», для Авсония делал исключение — его называли «первым поэтом нового времени», в его благодушном изяществе видели первый проблеск «французского духа» и только жалели, что местами он портил свои стихи чужеродной риторикой. Что его риторика была не порчей, а почвой для этого «разговора о себе», столь дорогого для читателя живой теплотой интонации, а для историка — богатством культурно-бытовых подробностей, — это стало понятно лишь в наши дни.
Читать дальше