Так получилось: далеко от Москвы
не было долго жратвы у братвы.
Хлеб разрезали шпагатом, как мыло:
птюха на сутки и - никаких.
Братва похудела и походила
скорей на покойников, чем на живых.
Я сладко держал за щекою мякину
после строгого дележа.
Мне мерещились синие автомашины,
в которых буханки ржаного лежат.
Впрочем, у всех застывало в глазах
изумленное выражение -
это больно зрачки раздирало в глазах
голодное воображение.
Хлеб был таким же, как зимнее солнце.
Но зимнее солнце светило, однако...
Однажды вольняшки за восемь червонцев
нам боданули в карьере собаку.
Дворняга служила за просто так,
смотрела в глаза спокойно и мудро
и, все понимая, под острый тесак
подставила голову январским утром.
Мы жрали, глаза друг от друга пряча,
“радость собачью” - похлебку собачью.
Лишь доходяга-интеллигент,
как резавший в прошлом собак физиолог,
поглядывал молча на “эксперимент”
и продолжал исповедовать
голод.
Разжарившись в тропике знойном барака,
на нарах, руками коленки обвив,
братва вспоминала о милых собаках
поэмы, исполненные любви.
Осень, охота... с лоснящейся шкурой,
нос пó ветру, в хлябь приозерную врос,
в гипнотической стойке
поднебесной скульптурой
великолепный охотничий пес...
А вот молчаливый артельщик Пикейкин,
“был упакован покруче, чем Крез”,
с уваженьем унылым припомнил ищейку
самую умную в обэхаэс...
В канаве, в дымину, бугор наш Дремлюга,
с ним рядом смешная и жалкая Жучка -
лижет хлебало запойного друга,
всю ночь охраняет остаток получки...
Вот Ловчев пришел из конторы усталый.
“Только успел ступить на крыльцо -
Альма, понимаете, зацеловала,
собственно говоря, все лицо”...
Он был, разговор полуночный, наукой
верности, честности и простоты.
Лишь грязная личность по прозвищу “сука”
нам затыкала рты.
Но мы еще долго болтали в бараке
и губы одной самокруткою жгли,
а за оградою выли собаки,
собаки, которые нас стерегли.
Бульдоги, болонки, упряжки Клондайка...
Мы жрали собак и жирком обросли.
Собратья известной космической Лайки
в ту зиму дистрофиков многих спасли.
И может быть, душ наших переселенье
не метемпсихоза мистический бред -
хочу испытать я второе рожденье,
да-да, через тридцать, не более, лет.
Тогда я испробую жизни собачьей,
и взвою взахлеб на луну от тоски,
и тихо, по-человечьи заплачу
от нечаянной ласки хозяйской руки.
Я женщину, вылившую помои,
буду боготворить, любя,
и взгляда загадочной чистотою,
человек, я смущу тебя.
Всегда буду ласков за просто так,
взгляну в глаза спокойно и мудро
и, все понимая, под острый тесак
подставлю голову однажды утром...
...................................................................
И вот тебе раз - случай выкинул номер:
я жил себе жил, неожиданно помер,
присобачили душу... Был слеп, жрать хотелось
и не расхотелось уже никогда.
Помню щенячью свою оголтелость,
ну а потом приключилась беда...
Нас всех оторвали от мамкиной сиськи,
саму замочили, чтоб выть не могла,
меня завернули в листы “Независьки”...
Проклятая нелюдь... Удушлива мгла...
Оклемался в помойке, объедков нажрался,
поскуливал, вылез, в коллекторе дрых...
Поздней - живодеру в удавку попался,
а он мне под дых, пропадлина, под дых.
Но я ему в яйца вцепился - был шустрым,
на случках легко завоевывал сук...
Держал шесть кафе,
в брюхе было не пусто...
Пинали, вязали,
умел вырываться из рук.
Инспектор-хапуга
прикрыл эти наши столовки,
бывало, дня по три ни крошки не жрал.
И выжил - использовал волчьи уловки...
Жизнь эту собачью в гробу я видал...
Ну что ж, венценосцы Творенья,
гоните бездомных, шмаляйте!
Бомжам перепульте
печень, сердце, кишки,
мастырьте ушанки,
из шерсти пимов наваляйте,
пеките из “лучших друзей” пирожки...
А после вгрызайтеся друг другу в глотку,
чем брезгуют волки, орлы и слоны.
От брюха хлещите сивушную водку -
забудете жалость и чувство вины...
Я больше не взвою, не гавкну, не рыкну,
клыков не оскалю и не поскулю,
а если рожусь человеком - привыкну:
я все-таки жизнь
и нормальных двуногих
люблю.






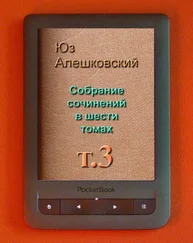



![Настя Чацкая - Собачьи зубы, собачье сердце [СИ]](/books/420591/nastya-chackaya-sobachi-zuby-sobache-serdce-si-thumb.webp)