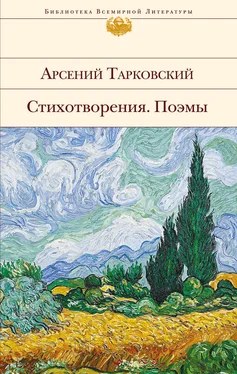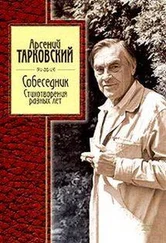Чтобы раскрылся саквояж
Большого детского вокзала,
И ты воочью увидала
И чемодан, и столик наш,
Чтобы рассыпанный миндаль
Возрос коричневою горкой,
Или проникнул запах горький
В буфетный, кукольный хрусталь,
Чтобы, толкаясь и любя,
Кружиться в зеркальце вокзальном,
И было множество тебя,
По каждой в ядрышке миндальном.
1928
Кирпичные, тяжелые амбары
Густым дыханьем напоили небо,
Под броней медной напрягались двери,
Не сдерживая гневного зерна.
Оно вскипало грузным водопадом
Под потолок, под балки, под просветы
Распахнутых отдушин, и вздувались
Беременные славою мешки.
Так жар дышал. Так жил амбар. Так мыши,
Как пыльные мешки, дышали жаром,
И полновесным жиром наливался
Сквозь душный полдень урожайный год.
Так набухали трюмы пароходов,
И грузчики бранились вперемешку
С толпой наплывшей. Так переливалось
Слепое солнце в масляной воде.
1928
«Не уходи, огни купальской ночи…» *
Не уходи, огни купальской ночи
В неверном сердце накопили яд,
А в лес пойдешь, и на тебя глядят
Веселых ведьм украинские очи.
Я трижды был пред миром виноват.
Я слышал плач, но ты была невинна,
Я говорил с тобою, Катерина,
Как только перед смертью говорят.
И видел я: встает из черных вод,
Как папоротник, слабое сиянье,
И ты идешь или плывешь в тумане,
Или туман, как радуга, плывет.
Я в третий раз тебя не удержал.
И ты взлетала чайкою бездомной.
Я запер дверь и слышал ветер темный
И глиняные черепки считал.
1928
Над мрачной рекой умирает гранит,
Над медными львами не движется воздух,
Твой город пустынен, твой город стоит
На льду, в слюдяных, немигающих звездах.
Ты в бронзу закован, и сердце под ней
Не бьется, смирённое северным веком, —
Здесь царствовал циркуль над грудой камней,
И царский отвес не дружил с человеком.
Гневливое море вставало и шло
Медведицей пьяной в гранитные сети.
Я понял, куда нас оно завело,
Томление ночи, слепое столетье.
Я видел: рука иностранца вела
Коня под уздцы на скалу, и немела
Простертая длань, и на плечи легла
Тяжелая бронза, сковавшая тело.
И море шумело и грызло гранит,
И грабили волны подвалы предместий,
И город был местью и гневом залит,
И море три ночи взывало о мести.
Я видел тебя и с тобой говорил,
Вздымались копыта коня надо мною,
Ты братствовал с тьмой и не бросил удил
Над нищенским домом за темной Невою.
И снова блуждал обезумевший век,
И слушал с тревогой и непониманьем,
Как в полночь с собой говорит человек
И руки свои согревает дыханьем.
И город на льду, как на звездах, стоит,
И воздух звездою тяжелой сияет,
И стынет над черной водою гранит,
И полночь над площадью длань простирает.
1928
Твое изумление, или твое
Зияние гласных – какая награда
За меркнущее бытие!
И сколько дыханья легкого дня,
И сколько высокого непониманья
Таится в тебе для меня,
Не осень, а голоса слабый испуг,
Сияние гласных в открытом эфире —
Что лед, ускользнувший из рук…
1928
«Блеют овцы, суетится стадо…» *
Блеют овцы, суетится стадо,
Пробегают бешеные дни.
Век безумствует. Повремени,
Ни шуметь, ни причитать не надо.
Есть еще в руках широкий бич,
Все ворота наглухо закрыты,
И колы глубоко в землю врыты,
Чтоб овец привязывать и стричь.
1928
Я виноват. О комнатное время,
Домашний ветер, огонек в передней!
Я сам к тебе зашел на огонек,
Что с улицы, от снега, от костров,
От холода… Я тихо дверь открыл.
Куда как весело в печи трещало,
Как запрещал сверчок из теплой щели
Без спросу уходить, куда как Диккенс
Был нежен с чайником. Я сел у печки,
И таяли на рукавах моих
Большие хлопья снега. Засыпая,
Я слышал: чайник закипал, сверчок
Трещал, и Диккенсу приснилось: вечер,
И огонек в передней тает, – и
Я вижу сон. Плывет, как дилижанс,
Глухая ночь, и спит возница. Только —
Поскрипывая и качаясь, мимо
Еще недогоревших фонарей
Плывет глухая полночь. Я вошел
В переднюю, сквозь огонек, – и чайник
Уже кипел, и я открыл глаза,
И понял я: в моих больших ладонях
Живет такая тишина, такое
Запечное тепло, что в тесной щели
Без устали трещит сверчок. А все же
На волю всем захочется – и если
Я виноват, что задремал у печки —
Прости меня.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу