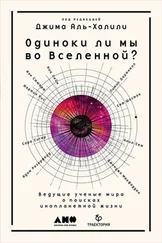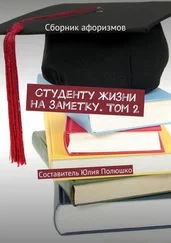Утро брезжит, а дождик брызжет.
Я лежу на вокзале в углу.
Я еще молодой и рыжий,
мне легко на твердом полу.
Еще волосы не поседели
и товарищей милых ряды
не стеснились, не поредели
от победы и от беды.
Засыпаю, а это значит:
засыпает меня, как песок,
сон, который вчера был начат,
но остался большой кусок.
Вот я вижу себя в каптерке,
а над ней снаряды снуют.
Гимнастерки. Да, гимнастерки!
Выдают нам. Да, выдают!
Девятнадцатый год рожденья —
двадцать два в сорок первом году
принимаю без возраженья,
как планиду и как звезду.
Выхожу, двадцатидвухлетний
и совсем некрасивый собой,
в свой решительный, и последний,
и предсказанный песней бой.
Потому что так пелось с детства.
Потому что некуда деться
и по многим другим «потому».
Я когда-нибудь их пойму.
Было полтора чемодана.
Да, не два, а полтора
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра,
Леденящая, вроде Алдана.
И еще – словарный запас,
Тот, что я на всю жизнь запас.
Да, просторное, как Семиречье,
Крепкое, как его казачьё,
Громоносное просторечье,
Общее,
Ничье,
Но мое.
Было полтора костюма:
Пара брюк и два пиджака,
Но улыбка была – неприступна,
Но походка была – легка.
Было полторы баллады
Без особого складу и ладу.
Было мне восемнадцать лет,
И – в Москву бесплацкартный билет
Залегал в сердцевине кармана,
И еще полтора чемодана
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра.
Хотелось ко всему привыкнуть,
Все претерпеть, все испытать.
Хотелось города воздвигнуть,
Стихами стены исписать.
Казалось, сердце билось чаще,
Словно зажатое рукой.
И зналось: есть на свете счастье,
Не только воля и покой.
И медленным казался Пушкин
И все на свете – нипочем.
А спутник —
он уже запущен.
Где?
В личном космосе,
моем.
Человек поверяется холодом или жарой
в сорок градусов выше и ниже нуля,
и еще —
облепляющей весь горизонт мошкарой,
и еще —
духотой,
бездушной, словно петля.
Закипает
и превращается в пар,
загорается
и превращается в дым
ваша стойкость.
А тот, кто упал, – пропал,
и поэтому лучше быть молодым.
Двадцать градусов лишних он выдержит —
не пропадет.
До костей он промокнет,
но всё – не до самых костей.
А сгоревши дотла,
он восстанет из пепла, пойдет
и гостей позовет!
Напоит и накормит гостей!
Лучше быть молодым!
Все, кто может, – спасайся, беги
в край,
где легкая юность чеканит шаги!
Константин Ваншенкин
1925–2012
Едва вернулся я домой,
Как мне сейчас же рассказали
О том, что друг любимый мой
Убит на горном перевале.
Я вспомнил длинный ряд могил
(Удел солдат неодинаков!),
Сказал: – Хороший парень был, —
При этом даже не заплакав.
И, видно, кто-то посчитал,
Что у меня на сердце холод
И что я слишком взрослым стал…
Нет, просто был я слишком молод.
1955
Евгений Винокуров
1925–1993
«Тоска по детству – ерунда!..»
Тоска по детству – ерунда!
Вот детство! Что на свете слаже?..
А я не захотел туда
Вернулся на мгновенье даже.
Наморщь-ка лоб; чем одарит
Нас память?
Это ж все знакомо:
В снежки играем, дифтерит
Да скука над законом Ома…
Зато – о, юность!
Как остры
Воспоминанья!
И чем старше,
Тем резче помню —
от жары
Свой первый обморок на марше…
1960
Весна. Мне пятнадцать лет. Я пишу стихи.
Я собираюсь ехать в Сокольники,
Чтобы бродить с записной книжкой
По сырым тропинкам.
Я выхожу из парадного.
Кирпичный колодец двора.
Я поднимаю глаза: там вдалеке, в проруби,
Мерцает, как вода, голубая бесконечность.
Но я вижу и другое.
В каждом окне я вижу женские ноги.
Моют окна. Идёт весенняя стирка и мойка.
Весёлые поломойни! Они, как греческие праздне —
ства,
В пору сбора винограда.
Оголяются руки. Зашпиливаются узлом волосы.
Подтыкаются подолы. Сверкают локти и колени.
Я думаю о тайне кривой линии.
Кривая женской фигуры!
Почему перехватывает дыхание?
О, чудовищное лекало человеческого тела!
Я опускаю глаза. Хочу пройти через двор.
Он весь увешан женским бельём на верёвках.
Это – огромная выставка интима. Музей испод —
него.
Гигантская профанация женственности.
Здесь торжествуют два цвета: голубое и розовое.
В чудовищном своём бесстыдном разгуле плоть
Читать дальше