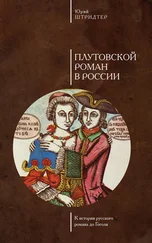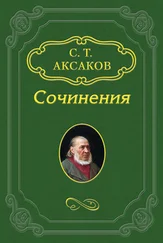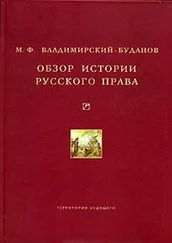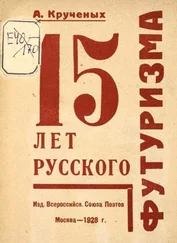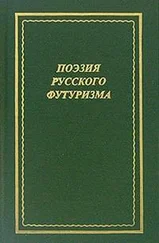Волге долго не молчится.
Ей ворчится, как волчице.
Волны Волги точно волки
Ветер бешеной погоды
Вьется шелковый лоскут
И у Волги, у голодной
Слюни голода текут.
(
«Уструг Разина», 1920-21 ) 5
Отрывок инструментован на звуках в-о-л-к, которые, повторяясь в семи коротких строках, двадцать раз разнообразятся звуковыми аккордами «вол-ворч-од-долг» и т. д.
В первых двух строках даны, кроме ударной, две внутренние полновесные рифмы – Волге-долго, ворчится-волчице и т. д. В третьей начальная рифма – волны Волги .
Созвучия, таким образом подобранные, дают предельную инструментовку переливов и рокота грозной волны.
Бушующая дикая Волга ни разу не ослабевает и не сбивается в чуждый звукоряд – весь отрывок в ударных местах построен на основной мелодии гласных о-о-о-у (вой-ропот-гул).
3) Образность речи . Образы Хлебникова ярки и неожиданны, идут вразрез со стандартом. Вот, например, разоблачённая чайка и, попутно, меткая характеристика международных хищников-спекулянтов.
Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками глазом, имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.
(
«Зверинец», 1909 г. ) 6
Иногда это ряд образов, неразрывно между собой связанных и влекущих друг друга:
Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам подписью узника. 7
Но некоторые образы Хлебникова кажутся сперва похожими на загадку, кажется – поэт начудил.
Олень – испуг, цветущий широким камнем.
(
«Зверинец» ) 8
Разгадка простая: олень – сама чуткость, весь насторожившийся, лёгкий, он в то же время придавлен тяжестью ветвистых рогов – как бы цветущим (замшелым?) камнем.
Особую категорию представляют словообразы Хлебникова.
Вселенночку зовут мирея полудети
И умиратище клянут.
(
Из его поэмы 1912 г. «Революция». По цензурным условиям была названа «Война-смерть» ) 9
Мирея – динамичное слово взамен фразы: «растворяясь в мировом». Умиратище дает образ чудища, несущего смерть, и т. д.
Впрочем, классификация образов Хлебникова требует специального исследования.
4) Так же вскользь скажем о словоновшествах Хлебникова, которые он вводил всегда очень обдуманно и намеренно и «расшифровка» которых требует обширных теоретических исследований. Правда, некоторые его словоновшества уже как будто привились. Общеизвестно, например, его «Заклятие смехом», всё состоящее из одного только слова и производных от него.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно.
О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей!
и т. д. 10
Хлебников показал здесь большое чутьё языка, прекрасное знание приставок и суффиксов, ритмическую виртуозность.
«Смехачи» так поразили, что некоторые критики ещё в 1913 г. предлагали за одну эту вещь поставить памятник Велимиру Хлебникову – «освободителю стиха», а в наше время (в 1927-28 гг.) существовал даже юмористический журнал под хлебниковским названием «Смехач».
Велимир создал десятки тысяч новых речений. От одного глагола «любить» он произвел около тысячи слов. Он написал специальный доклад о новых «лётных» словах (на потребу авиации), основал теорию внутреннего склонения слов и т. д.
Как-то ночью, проходя с друзьями по улице и взглянув на небо, он начал называть все созвездия их древне-славянскими именами!
В литературу Хлебников пришёл от занятий по филологии, философии, естествознанию, математике и этих занятий не оставлял.
Я – Разин со знаменем Лобачевского. 11
Хлебников подчеркивал эту аналогию, ставя себя под знамя знаменитого учёного, создавшего новую геометрию. Друзья вспоминают, как изумлял их Хлебников широкой учёностью, например, говоря о возможности влияния китайской, японской, индийской и монгольской линии на русскую поэзию и давая обобщённые характеристики поэзии всех этих народов. Оперировать «народами и государствами» было обычным занятием Хлебникова, а его мечта – стать председателем земного шара, потому что всю жизнь он боролся за уничтожение государств, ограниченных пространством. 12
* * *
Темы произведений Хлебникова разнообразны – зоологическая жизнь («Зверинец», «И и Э»), сельские идиллии («Вила и леший», «Сельская очарованность» и др.), фантастика (пьесы: «Мирсконца», «Чортик», «Пружина чахотки» и др.), быт будущих веков («Радио», «Дома и мы», «Лебедия будущего» и т. д.). 13
Читать дальше