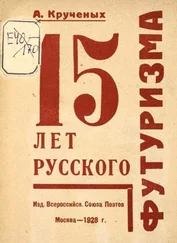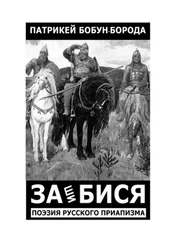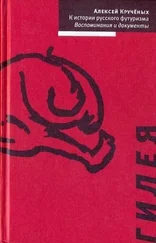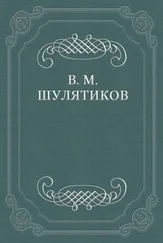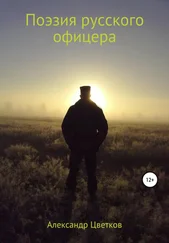Тогда разорвутся губы
От злой и голодной ругани
И море пойдет на убыль
Задом, как зверь испуганный
. . . . . . . . . .
За то что твоя рубаха
Одна на песке останется.
(«Я знаю: все плечи смело…»)
Космос Божидара может замкнуться в ограниченном искусственном пространстве (стихотворение «Пресс-папье») или охватить простор до небесного свода-купола («Сердце в лазури»), совмещается с «полем планет» («Солнцевой хоровод») и с «брокенскими плоскогорьями» («Григорию Петникову»). Он «мучителен» для ума и сердца даже в моменты поэтического просветления. В самих конструкциях стихотворений Божидара, герметических, отмеренных, откровенно «сделанных», живет дух тяжести, «пленения». Божидар напоминает И. Игнатьева: стихи могут показаться надуманными, мертвенными, и все же есть в них скованная, стремящаяся высвободиться энергия; у Божидара она живее, он не задает сакраментальных «почему?», стремится разноообразить рисунок. И если в «Пресс-папье» повторяется единственный, по существу, образ-мотив (фигурки паяцев в стеклянном пресс-папье), то в стихотворении «Сердце в лазури» мотив сердца-солнца, вынесенный в заглавие, реализуется в плотном ряду раздельных и одновременно совмещающихся образов (колокол – зеркало – бонза – церковь – купол). Текст наполовину состоит из глаголов и глагольных форм, и все они в конечном счете тоже относятся к сердцу, передают его состояние.
Третий из этой группы хлебниковских учеников, Г. Петников, пытался создать некий синтетический стиль, соединял языковую архаику и словотворчество, трансформировал приемы изобразительного искусства и различные литературные традиции. Наиболее интересны у него поэтические пейзажи натурфилософского плана, разрабатывающие «тютчевскую» тему смены времен года, шире – тему жизни и смерти. Лирическое содержание в таких стихотворениях проступает из глубины текста, например, из уподобления древесных соков току крови, а природы в целом – человеческому организму с кровеносными сосудами и, конечно же, сердцем:
А вот когда в весны предсердьях
Встает аорты тяжкой ярь.
Ты володом каких посмертий
Вздыхаешь целины испарь?
(«Посмертье»)
Энергичный характер своего творчества поэты группы «Лирень» стремились усилить введением темы активного действия (битва, скачки и т. д.), что по-своему тоже созвучно пафосу манифеста «Труба марсиан».
Воспринимая природу как движение, процесс, футуристы акцентировали одну сторону этого процесса – рождение нового и опускали или даже оспаривали другую – что это рождение есть возрождение, цикличность, повтор. Р. В. Дуганов рассматривает эстетику футуризма как «эстетику бесконечного материально-энергийного становления» [64] Дугано в Р. Велимир Хлебников: Природа творчества. М., 1990. С. 125.
и приводит на этот счет многие заявления поэтов и художников футуристического направления. Например, Малевич: «Природа не хочет вечной красоты и потому меняет формы и выводит из созданного новое и новое» [65] Там же. С. 124.
(ср. пушкинское: «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять»). Или Ольга Розанова: «Нет ничего в мире ужаснее повторяемости, тождественности…» [66] Там же. С 125.
(ср. мысль позднего Пастернака, подготовленную всем ходом его творческого развития, полемичного по отношению к футуризму: «…все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях» [67] Пастернак Б. Доктор Живаго // Пастернак Б. Собр. соч. Т. 3. C. 69.
). Понятно, что ведущая тенденция футуристической «натурфилософии» имела прямое отношение к эстетической проблеме традиций и новаторства, принципиально решаемой в пользу новаторства. Понятно также, в другом аспекте, что она не характерна в равной мере для всех футуристов и кто-то из них обходился без какой бы то ни было натурфилософии. Однако во всех случаях поэтика футуризма формировалась на основе материально-чувственного мировосприятия.
Художник, по убеждению футуристов, творит не подобие вещи, а саму вещь, активно участвует в деле мироустройства. Процесс создания произведения осуществляется «всеми силами нашего организма», с включением всех органов чувств. Мысль не то что бы новая, но всячески подчеркиваемая футуристами и практически реализуемая в фактуре произведения. И от читателя (зрителя) требуется нечто большее и, может быть, даже иное, чем понятная, традиционная работа «ума и сердца», – воспринимая произведение, он должен видеть, слышать, осязать, пробовать произведение на вкус и чуть ли не улавливать его запах (слово-запах, мы помним, тоже присутствует в теории футуризма). Проблема «понимания» футуристических стихов не менее каверзная, чем проблема самого творчества.
Читать дальше