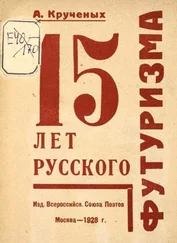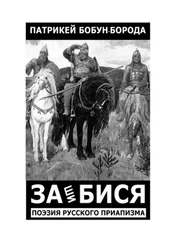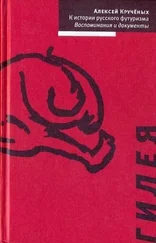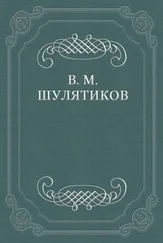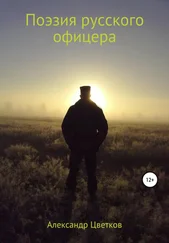Другое дело, что футуристы, в первую очередь кубофутуристы, в силу нигилистических свойств своего сознания «хотели» потрясений и призывали к потрясениям. Их искусство, основанное на сломе традиции, на идее исчерпанности прежней культуры, было готово, хотя бы на словах, к любому слому в самой жизни. Убежденные в том, что «каждый период жизни имеет свою словесную формулу» (слова Маяковского), они свои художественные эксперименты прямо соотносили с «ритмами» современности («нервная жизнь городов» и т. д.) и заранее примеривали к будущему. И когда происходили чрезвычайные события – война, революция, – футуристы, задним числом, объявляли себя их пророками. Маяковский в статье «Штатская шрапнель. Вравшим кистью» (1914). написанной в начале мировой войны, заявляет, обращаясь к «Репиным, Коровиным, Васнецовым»:
«Вчера еще на выставках вы брюзжали около наших картин, картин крайних левых: „Сюжетца нет, надо с натуры писать, господа, вы правды не ищете, это учебник геометрии, а не картина“.
Сегодня же попробуйте в лаптях вашей правды подойти к красоте. Даже в жизни сегодняшней нет ничего правдашнего. <���…> Эй вы, списыватели, муравьиным трудом изучившие натуру, сосчитайте, сколько ног у несущейся в атаку кавалерии, нарисуйте похожей яичницу блиндированного поезда, расцапанную секундой бризантного снаряда!» [46] Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 1. С 308–309.
Типичная для футуристов подтасовка фактов для утверждения своей пророческой роли.
На деле было так, что война, скорее, отрезвила футуристов, и не только тем. что отвлекла от них внимание публики. Война возвращала к «содержанию», к ответственной теме. И футуристы создали ряд значительных, трагически окрашенных произведений о войне. Помимо известных стихов Маяковского, Хлебникова и Пастернака, необходимо отметить произведения К. Большакова и П. Филонова.
Антивоенная «Поэма событий» К. Большакова вполне оригинальна по своему строю и особому характеру лирической темы. И в то же время побуждает к сопоставлениям: в ней есть перекличка со стихотворениями Маяковского «Война объявлена», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон» (концовка), как и – в свою очередь– отзвук ее отдельных мотивов, образов и рифм (Цезаря – [на] лице заря) можно обнаружить в позже написанной поэме Маяковского «Война и мир».
Интереснейшее явление искусства представляет собою книга Павла Филонова «Пропевень о проросли мировой» (так делал ударения автор). Она написана ритмизованной прозой, по внешней структуре это пьеса, а по внутреннему строю, по сути, – поэма, где все подчинено стихии языка, причудливого, тяжеловесного, почти шаманского. Это книга художника: рисунки Филонова лишь слегка соприкасаются с тематическими узлами текста, они самостоятельны, автономны, но составляют неотъемлемую часть стилистического целого.
Трудно даже и предположить, что найдется лингвист, который разложит многослойный язык Филонова по четким разрядам исторического, этимологического, словотворческого и прочих значений. Непосредственному читательскому восприятию приходится продираться сквозь эти дебри, и вознаграждением ему служит то, что в потоке странных, почти заумных слов образуются какие-то таинственные гроздья и вдруг открываются целые застройки прекрасных, «понятных» метафорических словообразов.
Ключ к методу Филонова дан в общем названии книги, состоящей из двух связанных между собою поэм. Известно, что Филонов-живописец, – правда, позже, когда он обратился к метафизической абстракции, – мог писать картину от угла, чтобы она росла и развивалась, как природный процесс, именно как «проросль мировая». В книге Филонова фольклорный сюжет о Ваньке-ключнике и княгине не просто продолжен (вторая поэма) – он, проступая пунктирно, намеками, привлекает к себе другие сюжеты, и все вместе расширяется до коллизии универсальной, на субстанциальном уровне: жизнь и смерть. Посредницей между жизнью и смертью выступает любовь, которая одновременно принадлежит обеим противоборствующим сторонам, ведет к гибели и служит залогом воскресения. В колебаниях словесной массы нарушаются границы между миром земным и загробным, смещаются сроки и имена – мифологические, исторические, культурные. Пушкинский Командор появляется не Каменным гостем, а уже «истлевшим», из могилы, где ему «корни провили грудь», и потом снова «проваливается» (пушкинское слово) в преисподнюю. С Амуром, Адамом и Каином в тексте соседствуют икс-лучи, современный газетчик и «провокатор с проплеванным лицом». Немецкий король старого времени говорит: «возжемте свеч Дьяволу Бойни железобетонной».
Читать дальше