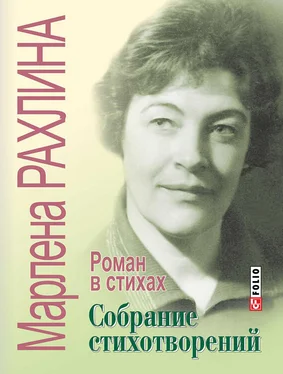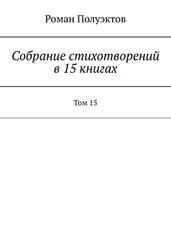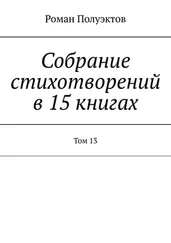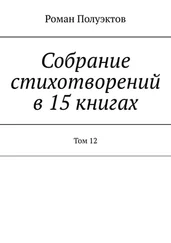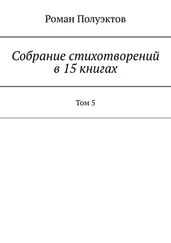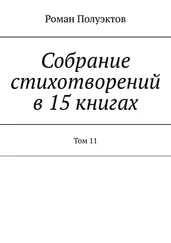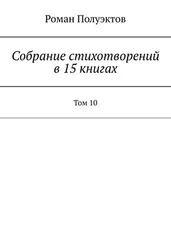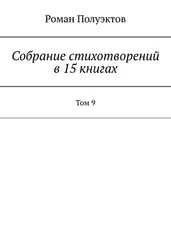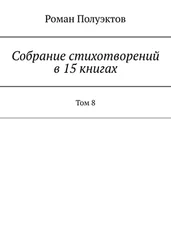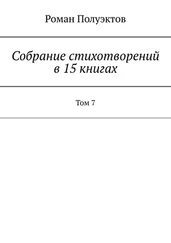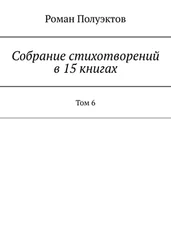М. Рахлина другу в поколенье и читателю в потомстве передает дар счастья, которое можно пережить – прочувствовать и тогда, когда все потеряно, когда естественно было бы чувствовать лишь скорбь и печаль. Но в том и дар ее: естественное превозмогается, является над этим естественным – чудо, и боль становится источником счастья.
Поэтическая судьба М. Рахлиной, очевидно, связана с тем, что этот дар изначально открылся ей, поманил за собой, а затем пришли испытания, понуждавшие отказаться от этого дара, забыть о нем, уйти от него. Каждое из них испытывало волю поэта, верность своему дару, устремленность к нему, надежду, веру, любовь. В последние годы свои она писала:
Обходиться безо всего и быть при этом счастливой –
это трудно, но надо, все-таки, попытаться!
Такой была задача, которую она решала на самом деле всю жизнь – и всей жизнью.
Начиная с 1945 г. скорби преследуют ее с редкой последовательностью. Следовало искать и найти ответ на эти не прекращающиеся вызовы судьбы. Ответ, который давал бы возможность сохранить или вернуть, если утрачена, изначально свойственную ей поэтическую экзистенцию счастья.
Над ее раскрытой могилой так естественно было прозвучать стихам:
И неужели хватит духу
у злой судьбы, у бытия
убить счастливую старуху,
которой завтра стану я?
Только вот написано это было в самом расцвете сил, ей было чуть-чуть за сорок. Отчего же эта совсем еще молодая женщина думает о том, что завтра станет старухой? И что делает возможным помыслить, что старуха эта будет завтра счастливой? А вот что:
И завтра труд мой многопудный
окончен будет сам собой,
и завтра друг мой многотрудный
придет, здоровый и живой…
Вот что было в этом ее сегодня длиною в жизнь: тяжкие труды и многотрудные друзья. Труды у Марлены Рахлиной были разные – среди прочего «руки – в дело, душу – в быт!» Такие они были, эти труды, что порой у нее вырывалось: «Всё как было. Только нет во всем МЕНЯ». Но среди всех ее трудов, может быть, самый многопудный тот, о котором она в 2006 г. написала:
Тружусь над прошлым я, иду походом
над памятью убитых в той войне,
которая велась с моим народом
в моей несчастной проклятой стране.
Но ведь это прошлое еще недавно было ее настоящим, и трудиться над этим настоящим приходилось не шутя. В ее ранней поэме «Отцы и дети» были строки:
Наша юность задавлена
то войной, то тюрьмою.
Чуть позже, в начале шестидесятых, она играет такими словами: «Там воронки́, а там воро́нки». И эти игры не отпускают ее и в следующем десятилетии. Тогда в стихотворении «Век» она писала:
Не только сосны и дубы
ты переделал на гробы,
звон колокольный на «звонок»,
а ворона на «воронок»,
а от звонка и до звонка,
от воронка до воронка
легла дорога, как река,
под наименованьем Лета,
и ни ответа, ни привета,
одна тоска…
Пришли восьмидесятые, и вновь есть повод написать:
В который раз уверенно и четко
в пейзаж наш бедный впишется решетка…
Это действительно многопудный труд – иметь в своей неотвязной памяти и в сознании «изгаженное детство» и то, что было потом: «лагеря, лагеря, лагеря, пересылки, этапы, вагоны»… И видеть, как «скользнув между тюрьмою и войной, исходит жизнь»…
Скажут: такими были судьбы ее близких, ее друзей, достаточно большой части ее поколения. Это верно, но далеко не каждый пишущий (в ее поколении в особенности) вводил подобное в свой поэтический мир. Нет, и судьба не случайность для личности, и друзей человек – выбирает сам, и что именно из личного опыта становится явлением поэтической судьбы – дело выбора для поэта.
Она выбрала – знать, из-под каких развалин говорит, не отворачиваться от всенародной беды, понимать до конца, что с нами происходило и происходит. Она в 1962 г. написала стихи о новочеркасской трагедии. На такое могли тогда отважиться единицы. Она тогда же писала о той «игре», которую навязывали народу, и о ее дирижерах:
Под топот сапог и под шепот параш,
от подлого страха немея,
скажу дирижеру, что стал он палач.
А большего я не умею!
Не в пример другим, М. Рахлина достаточно рано поняла фальшь той игры, в которую был втянут весь народ, и из-за этого, что и вовсе не типично для ее поколения, испытывала отвращение к главным, а потому для многих неприкосновенным символам советской действительности:
Перед тем, как стану пыль,
слышу звон на башне Спасской.
Слишком живо – если сказка.
Слишком жутко – если быль.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу