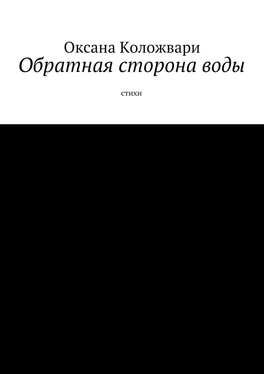Ведь я мертва почти.
Потому что я видела, как ты спускался с небес.
Не в смысле, что ты умер, а потом зачем-то воскрес,
я имею в виду, что ты кувырком летел,
что отъяли крылья, но ты как-то остался цел.
И вот это сияние в волосах, как нимб,
и вот это, что остро торчит за плечом твоим,
я как только увидела, сразу всё поняла —
это humerus humerus, обломок крыла.
Я стояла вон там, за елью, в густой тени,
ты тогда не заметил, так хоть сейчас оглянись,
а пылинки висели в воздухе, как в меду,
разве ты не услышал, что я за тобой иду?
Все случилось, теперь веками иду за тобой,
солнце мёдом льется, асфальт прорастает травой,
и столбы с фонарями теснятся, как тёмный лес,
потому что я помню, как ты спускался с небес.
Уходил от воды, оставляя свое отраженье
воде навсегда, лишь однажды коснувшись взглядом
этой тёмной воды, и становился всё ближе,
пока не исчез, навсегда оставаясь рядом.
Ведь он провалился внутрь, как жуки и листья,
как луна и солнце, утопленники и сети,
вместе с клинками, латами, страхами, мыслями,
и остался на дне, в тишине, во тьме, незаметен.
Но вода, дорогой мой, большего и не может —
хранить, качать на волнах, утолять жажду,
пока он её покой когда-нибудь не потревожит,
возвратясь забрать, что уронил однажды.
Выскользнуло, надтреснуло, разлом едва ощутим,
но больше мне не услышать этих манящих слов,
словно над тёмной пропастью дудочку опустил
и усмехнулся ехидно гаммельнский крысолов.
Больше по тёмным улицам спящих ночных городов
я не иду за мелодией, не разбирая пути.
Ты надо мной посмеялся, гаммельнский крысолов,
под моими ногами пропасть, я не знаю куда идти.
Что же, теперь мне вечно во тьме молчащей стоять?
Ожидая хотя бы звука, ни жива, ни мертва?
Мне остаётся только самой в тишине напевать
и слушать, как возвращает эхо мои же слова.
Если я перестану – мир навсегда замолчит.
И надо, коль я намерена всё же дожить до утра,
веки до боли смежить и представлять в ночи
крепкую руку с дудочкой, опущенную у бедра,
может быть только на время? Он так же молчит в ответ
и усмехается, слыша, как я, сбиваясь, хриплю,
самой себе возвращая то, чего больше нет,
эхом из тьмы молчащей – я люблю, я люблю…
Мне подарили зимою медведя, я назвала его Эль,
Он белый, надушен ладаном,
размером чуть больше младенца.
Каждую ночь я ложусь с ним в белую, как снег, постель
и прижимаю его к животу, пытаясь уснуть и согреться.
Каждую ночь я пытаюсь спастись из вязкой реки снов,
там, где под чёрным илом на дне острых коряг изгибы,
падаю вниз и туманною лентой вьётся из губ кровь,
и на другой стороне воды бьётся луна, как рыба.
Тело мое, как приманка, белеет в этой ночной воде,
смерть проплывает слепою рыбой
с острыми плавниками.
Я так стараюсь стать незаметной, словно бы я – нигде.
Околоплодные воды реки мне растворяют память.
Каждое утро я просыпаюсь, всплывая из черных рек
этих отравленных снов, и вдруг понимаю – жива, жива.
Я выползаю на волю из простыни,
белой, как мёртвый снег,
и вспоминаю – время, имя, и все остальные слова.
Он остается лежать, медвежонок,
в смятой ночной простыне,
вывернув лапы, словно зовёт не размыкать объятий,
ночью, как якорь, он удержал меня в этой чужой воде,
и возвращает сейчас из снов
в круг привычных понятий.
Какой-то для душа душистый гель,
мятная паста зубная,
к кафелю лбом и вниз близоруко глаза опустив,
вижу, как чёрные струи воды по животу стекают,
смывают ночные сны и уползают спиралью в слив.
Кто же поёт эту жуткую песню
про «скоро закончится, скоро»?
Чёртовы нотные знаки на ветках —
птицы орут в тишине.
Кончатся страхи, и муки, и сказки,
и песни, и ссоры, и споры.
Скоро свернётся, сомнётся, иссякнет.
Что же останется мне?
Мир опустевший – рассыпаны в бездну
реки, леса и закаты.
Всё разлетелось сияющей пылью,
каплями крови во тьме,
всё, что мерцало, шуршало, блестело,
звало и манило куда-то —
щепки, осколки костей и ошмётки,
а что же останется мне?
Как мне увидеть, ослепнув навек,
это бег, как полёт, над травою?
Без напряжённых ноздрей,
чем вдохнуть этот ладанный запах любви?
Где мне в сломавшемся мире
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу