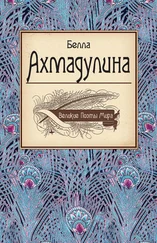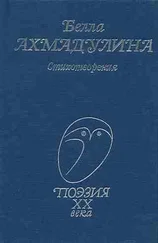О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.
И все сильней соблазн
встречать обман доверьем,
смотреть в глаза собак
и приникать, к деревьям.
Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота,
и, завершив прощать,
простить еще кого-то.
Сравняться с зимним днем,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нем
его оттенком, малым.
Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслоненный мною.
Все началось далекою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль: —
быть Мусею, любимой меньше Аси.
Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха — непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем все, что в этом мире не любимо.
Да и за что любить ее, кому?
Полюбит ли мышиный сброд умишек
то чудище, несущее во тьму
всеведенья уродливый излишек?
И тот изящный звездочет искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока еще ни в чем не виноватых.
Мила ль ему незваная звезда,
чей голосок, нечаянно, могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?
В приют ее — меж грязью и меж льдом!
Но в граде чернокаменном, голодном,
что делать с этим неуместным лбом?
Где быть ему, как не на месте лобном?
Добывшая двугорбием ума
тоску и непомерность превосходства,
она насквозь минует терема
всемирного бездомья и сиротства.
Любая милосердная сестра
жестокосердно примирится с горем,
с избытком рокового мастерства —
во что бы то ни стало быть изгоем.
Ты перед ней не виноват, Берлин!
Ты гнал ее, как принято, как надо,
но мрак твоих обоев и белил
еще не ад, а лишь предместье ада.
Не обессудь, божественный Париж,
с надменностью ты целовал ей руки,
он все же был лишь захолустьем крыш,
провинцией ее державной муки.
Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойденным бедствием столицы,
где рыщет Марс над плесенью воды,
тревожа тень кавалерист — девицы?
Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страданья,
где так она нища и голодна,
как в высшем средоточье мирозданья.
Хвала и предпочтение молвы
Елабуге, пред прочею землею.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлею.
Всего-то было горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
все тот же труд меж горлом и рукою,
и смертный час — не больше, чем строка.
Но ждать так долго! Отгибая прядь,
поглядывать зрачком — красна ль рябина,
и целый август вытерпеть? О, впрямь
ты — сильное чудовище, Марина.
Тем летним снимком на крыльце чужом
как виселица, криво и отдельно
поставленным, не приводящим в дом,
но выводящим из дому. Одета
в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбыв, допев
труд лошадиный голода и горя.
Тем снимком. Слабым острием локтей
ребенка с удивленною улыбкой,
которой смерть влечет к себе детей
и украшает их черты уликой.
Тяжелой болью памяти к тебе,
когда, хлебая безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашливала горло.
Присутствием твоим крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты — чужое, ты — нельзя,
ты — богово, тебя у бога мало.
Последней исхудалостию той,
добившею тебя крысиным зубом.
Благословенной родиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.
Возлюбленным тобою не к добру
вседобрым африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детворою. И Тверским бульваром.
Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки.
Клянусь убить Елабугу твою,
Елабугой твоей, чтоб спали внуки.
Старухи будут их стращать в ночи,
что нет ее, что нет ее, не зная:
«Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придет Елабуга слепая».
О, как она всей путаницей ног.
припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальцы ее без приговора.
Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей — и продержать подольше.
Детенышей ее зеленый сок
мне острым ядом опалит подошвы.
В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвясь про крыльцо
Марининого смертного бездомья.
И в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня Елабуга клянется.
Читать дальше