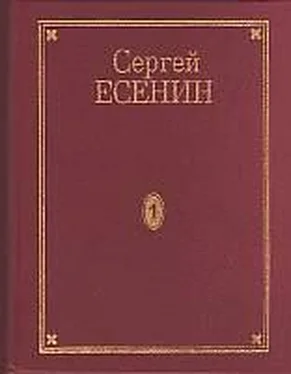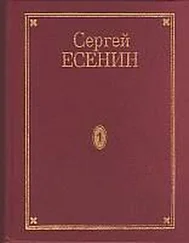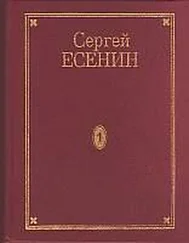Осунулся Афонька и лосиные рога прибил, вместе с висевшей на них фуражкою, около жернова.
Крепко задумался он — не покинуть ли ему яр, но в крови его светилась, с зеленоватым блеском, через черные, как омут, глаза, лесная глушь и дремь. Он еще крепче связался Кузькиной смертью с лесом и боялся, что лес изменит ему, прогонит его.
В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям, он уж не ждал, а тосковал по ком-то и часто, заслоняя от света глаза, выбегал на дорогу, падал наземь, припадал ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга * .
Как-то в бессонную ночь к нему пришла дума построить здесь, в яровой лощине, церковь.
Он обвязался, как путом, круг этой мысли и стал копить деньги.
Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь.
Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье.
Колол дрова, пилил тес и отдавал скупщикам.
Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох.
* * *
В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев.
С крыши звенели капли, около ставень, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи.
— Здорово, дедунь, — крикнул он, входя за порог и крестясь на иконы.
Афонюшка слез с печи, лицо его было сведено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая бородка клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест.
— Здорово, — кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу: — нет ли, родненький, сухарика; второй день ничего не жевал.
Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку.
— Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим…
Ощипал, выпотрошил и принес беремя дров.
Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь.
* * *
Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почуял, так почуял, как он ждал кого-то, что этот человек к нему не вернется.
— Останься, — грустно поникнул он головою. — Один я…
Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился.
* * *
На Фоминой неделе Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал строить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальное зарыл на еланке под старый вяз.
— Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем, — толковал он с Каревым. — Всю молодость свою думал поставить церковь; трать, — вынул он пачку бумаг, — ты, как Кузька, стал мне… словно век я тебя ждал.
Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон.
Оба сидели на заваленке; Афонюшка, захлебываясь, рассказывал лесные сказки. — Не гляди, что мы ковылем пахнем, — грустно усмехнулся он, — мы всю жисть, как вино, тянули…
— Что ж, захмелел?..
— Нема, только икота горло мышью выскребла.
К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз, пахло овсом и рожью… лошадиным потом.
С телеги вскочил, махая голицами * , мужик и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла.
Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро набок и заглотала.
Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок.
Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон.
Рыжебородый сотский, сдвинув на грядки * мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу.
Жернов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды.
Карев смотрел, как на притолке около жернова на лосиных рогах моталась желтая фуражка.
В сердце светилась тихая, умиленная грусть.
В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка.
— Чтоб те пусто взяло, — выругался сотский, спуская осторожно мешок. — Не мудрено и брыкнуться * …
— Крута лестница-то, крута… — зашамкал, упыхавшись, Афонюшка. — Обвалилась намедни плоская-то; новую заказал.
Карев дернул рычаг, и жернов, хрустя о камень, брызнул потоками искр.
— Сыпь! — крикнул он сотскому и открыл замучнелые совки.
Рожь захрустела, запылилась, и из совков посыпалась мука.
Афонюшка зацепил горсть, высыпал на ладонь и слизнул языком.
— Хруп * , — обратился он к Кареву, — спусти еще.
На лестнице показалась баба; лицо ее было красно, спина согнута, а за плечами дыхал травяной мешок. Карев смотрел, как Афонюшка суетливо бегал из стороны в сторону и хватал то совок, то соломенную кошелку.
Читать дальше