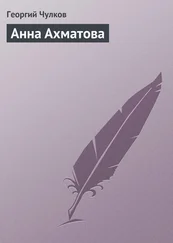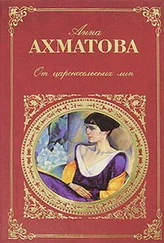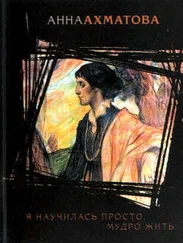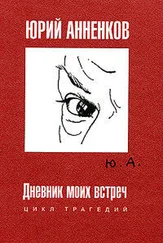##
Сегодня мы ездили с Аней в Киев, немножко прошли по городу, по бульвару и по Крещатику. Было очень жарко, мы скоро устали и поехали в свое пристанище обедать. На обратном пути в электричке я рассказывала Ане, как ровно десять лет назад в это день мы с тобой ездили в электричке навестить полковника… и о тех тяжелых днях, которые последовали потом. Как непоправимо быстро пролетело с тех пор десять лет и как медленно ползло время до 53-го года. Мы стараемся тихо, полулежа дожить августовские дни.
Ирина Пунина – Анне Ахматовой. 22 августа 1963 г.
Это бесхитростное и вроде бы обыкновенное письмо на самом деле свидетельство драгоценное. Оно точнее, чем суждения наблюдателей со стороны, объясняет, почему Анна Андреевна до конца жизни относилась к Ирине Николаевне как к своей приемной дочери, хотя это и возмущало ее родного сына. Они вместе пробедовали пять долгих лет после того, как в 1949-м арестовали сначала (26 августа!) Николая Николаевича, а затем (в ноябре) и Льва Гумилева. После смерти Сталина появилась надежда, но Анна Андреевна суеверно боялась августа… И, видимо, заразила этим суеверным ужасом Ирину. Защищаясь от страха, они и поехали на дачу к младшему брату Николая Николаевича. Было это 22 августа 1953 года, а осенью стало известно, что 21 августа, т. е. за день до этой поездки, в лагере под Воркутой Николай Пунин умер. Впоследствии и Ахматова, и Ирина Николаевна считали, что внезапное, ничем не мотивированное желание повидать Л. Н. Пунина, с которым не общались долгие годы, возникло не просто так, что был какой-то сигнал, который колдунья Акума, так в семье Пуниных называли Анну Ахматову, почуяла.
Все подтверждалось: август был месяцем беды, апрель – месяцем счастья. 15 апреля 1956 года, в день рождения Николая Гумилева, после восьми лет каторги вернулся сын.
* * *
И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это – только рана
И муки облачко над ней.
18 декабря 1964. Ночь Рим
ИМЯ
Татарское, дремучее
Пришло из никуда,
К любой беде липучее,
Само оно – беда.
1958
* * *
…В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогова. Стоговы были небогатые помещики Можайского уезда Московской губернии, переселенные туда за бунт при Марфе Посаднице. В Новгороде они были богаче и знатнее.
Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный русский убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго. В этот день, как в память о счастливом событии, из Сретенского монастыря в Москве шел крестный ход. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом.
Одна из княжон Ахматовых – Прасковья Егоровна – в XVIII веке вышла замуж за богатого и знатного симбирского помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим прадедом. Его дочь Анна Егоровна – моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было 9 лет, и в честь ее меня назвали Анной.
Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
1964 год.
Канун Николы Зимнего (18 дек<<���абря>>)
Сейчас бы ко Всенощной в какой-нибудь Московский Никольский собор. Завтра – Престол!
С Ангелом всех моих Николаев!
Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Памяти Николая Недоброво
Еще плещется лунная жуть,
Город весь в ядовитом растворе.
Без малейшей надежды заснуть
Вижу я сквозь зеленую муть
И не детство мое, и не море,
И не бабочек брачный полет
Над грядой белоснежных нарциссов
В тот какой-то шестнадцатый год…
А застывший навек хоровод
Надмогильных твоих кипарисов.
1 декабря 1928 Ленинград
* * *
Памяти Николая Пунина
И сердце то уже не отзовется
На голос мой. Ликуя и скорбя.
Все кончено… И песнь моя несется
В глухую ночь, где больше нет тебя.
1956
* * *
…Я не касаюсь тех особенных, исключительных отношений, той непонятной связи, ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями, где я называюсь «тот другой»(«И как преступен он, суровый»), который «положит посох, улыбнется и просто скажет: «Мы пришли». Для обсуждения этого рода отношений действительно еще не настало время. Но чувство именно этого порядка заставило меня в течение нескольких лет (1925–1930) заниматься собиранием и обработкой материалов по наследию Г<<���умиле>>ва.
Этого не делали ни друзья (Лозинский), ни вдова, ни сын, когда вырос, ни так называемые ученики (Георгий Иванов). Три раза в одни сутки я видела Н<<���иколая>> С<<���тепановича>> во сне, и он просил меня об этом (1924. Казанская, 2).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
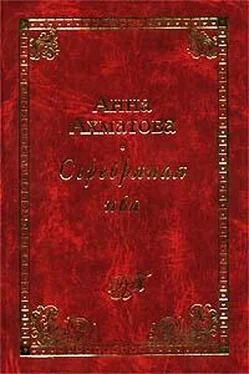
![Анна Ахматова - Бег времени [сборник]](/books/30703/anna-ahmatova-beg-vremeni-sbornik-thumb.webp)