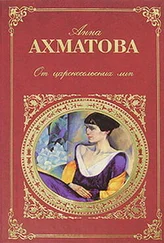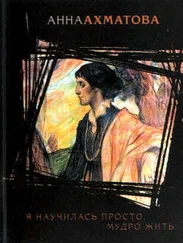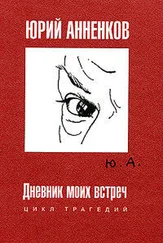Моя бедная поэма, которая начиналась с описания встречи Нов<���ого> года и чуть ли не домашнего маскарада – смела ли она надеяться, к чему ее подпустят. Но это странное упорство, с которым я к ней возвращалась, небывалый способ, которым я ее писала, все же свидетельствовал о чем-то. Когда в июне 41 г. я прочла (в Москве) первый (без начала и без конца) кусок Марине Цветаевой, она не без язвительности сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 1941 г. писать о Коломбине, Пьеро и Арлекине». Вероятно, этот кусок показался ей непростительно старомодным подражанием, стилизацией под раннего Кузмина или чем-то в этом роде, а она в это время уже была автором «Поэмы Воздуха» (1936), которую она в одну ночь переписала своей рукой и подарила мне с надписью, где фигурировала 25-лет<���няя> любовь. Но не в этом дело.
* * *
<31>…и все-таки все эти списки не полны и не верны. На единственно верном, отменяющем все списки, должны быть: 1) Дата 1962 г. 2) Отделенная от третьей IV-ая главка «1913 г.» со своей прозой («Угол Марсова Поля…») и новыми 9-ю стихами («Кто-то с ней « без лица и названья» – «А теперь прощаться пора») после стиха: «Возвратилась домой не одна». 3) Со стихами:
Кружевную шаль не снимая
…
В ожерелье черных агатов («1913 г.»)
…
4) Следующий кусок должен читаться так («1913»):
До смешного близка развязка,
Вкруг костров кучерская пляска [64]
Из-за ширм Петрушкина маска
Над Дворцом черно-желтый стяг…
Все уже на местах – кто надо,
Пятым актом из Летнего Сада
Пахнет. Призрак цусимского ада
Тут же. Пьяный поет моряк.
5) « Вопль: «Не надо!» – и в отдалении (1913)
Чистый голос: «Я к смерти готов».
6) В прим<���ечаниях> автора два портрета: Козлоногой и драгуна. Там же строфа «Всех наряднее…» кончается так:
Не клянет, не молит, не дышит
Голова m-me de Lamballe.
А смиренница и красотка,
Та, что козью пляшет чечетку.
Снова гулит томно и кротко:
«Que me veut mon Prince Carnaval?»
7) Новая редакция прозы к II-ой главке. (Про арапчат.) См. книгу Мейерхольда.
8) Дапертутто, Иоканааном (1913)
9) И никто меня не осудит
10) Певчих птиц не прятала в клетку (13)
11) И в тени заповедного кедра (февраль 62) Комар<���ово>
<32> Начинаю думать, что «Другая», из которой я подбираю крохи в моем «Триптихе» – это огромная, мрачная, как туча – симфония о судьбе поколения и лучших его представителей, т. е. обо всем, что нас постигло. А постигло нечто беспримерное, [65]что та поэма звучит все время, как суд у Кафки и как Время, чего я, конечно, не смею сказать о моем бедном «Триптихе». Но слушая «Другую», т. е. слушая Время…
…и только сегодня мне удалось окончательно сформулировать особенности моего метода в «Поэме…». Ничего не сказано в лоб: сложнейшие и глубочайшие вещи изложены не на десятках страниц, как они привыкли, а в двух стихах, – но всем понятно, о чем идет речь и что чувствует автор. Напр.:
«Коридор Петровских коллегий
Бесконечен, гулок и прям,
Что угодно может случиться,
Но он будет упрямо сниться
Тем, кто нынче проходит там». [66]
Разве это не вся петербургская ученая эмиграция?
А «Все уже на местах, кто надо
Пятым актом из Летнего Сада
Веет».
Разве это не канун Революции?
И еще:… призрак цусимского ада
Тут же. – Пьяный поет моряк.
Раньше «цусимского ада» не было. Я извлекла его из пьяного и поющего моряка, в котором он всегда был. (Сравнение с цветком). Так развертывая розу, мы находим под сорванным лепестком – совершенно такой же.
А в Эпилоге:
«И открылась мне та дорога, (за Уралом)
По которой ушло так много,
По которой сына везли…»
В этих строчках каждый из нас узнает ежовщину и бериевщину. У всех везли сына (или мужа) за Урал. Более мелкие примеры:
«Уверяю, это не ново…
«Вы дитя, signor Casanova
и т. д. т. д.
В строчке «По которой ушло так много» уже содержится следующая.
Этот метод дает совершенно неожиданные результаты: я уже писала в другом месте, что все время чувствовала помощь (и почти подсказку) читателя. (Особенно в Ташкенте). И вот это «развертывание цветка» (в частн<���ости> розы) дает и читателю в какой-то мере, и, конечно, совершенно подсознательное ощущение – соавторства. Есть поэты, которые знают, что про некоторые их произведения читатели говорят: «Это про меня [67]– это будто я написал(а)». И тогда автор может быть уверен, что сделанное им «дошло».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
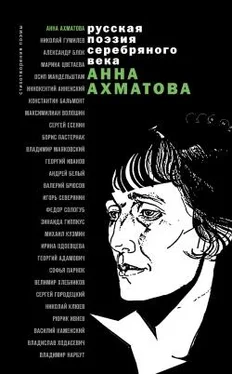
![Анна Ахматова - Бег времени [сборник]](/books/30703/anna-ahmatova-beg-vremeni-sbornik-thumb.webp)