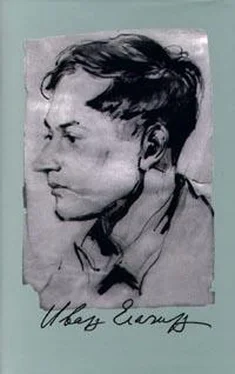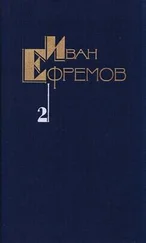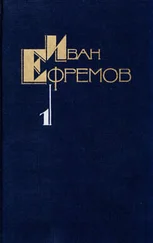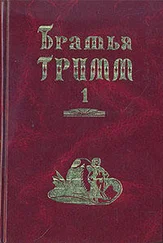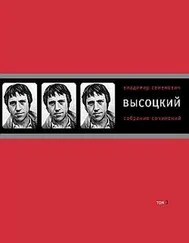И вот пришло лето 1941-го. Елагин написал много о тех днях, когда «летели на город голодные бомбы». Видимо, тогда и началась окончательно его «взрослая» жизнь «во времени, а не в пространстве».
Ни Людмила Титова, ни Татьяна Фесенко, бывшие свидетельницами оккупации Киева и оставившие каждая по книге воспоминаний о Елагине, ни один из друзей Елагина, кого я запрашивал письмами, — никто не смог мне дать окончательный ответ: как так вышло, что Матвеевы не эвакуировались, а остались в Киеве и «оказались под немцами». Наверняка — не нарочно, не потому, что не верили советской пропаганде и считали сообщения о немецком истреблении евреев очередной ложью ТАСС. Иван, недоучившийся врач из Второго медицинского, работал на «скорой помощи», вывозил раненых из пригородов в больницы и едва ли заметил мгновение, когда Киев перестал быть советским. О том, что было дальше, рассказано в книге Титовой:
«После того, как отгремели страшные взрывы, после Бабьего Яра, в первую зиму немцы открыли два вуза — медицинский институт и консерваторию. Учеба там спасала от Германии. Залик стал посещать занятия в медицинском и дежурить в больнице. Кажется, в акушерском отделении. Кончались занятия в мединституте или дежурства в больнице — и Залик забегал ко мне. Повторял:
— Люди теперь не рожают. Если проскочит какой-нибудь случайный ребенок, и то хорошо!» [17] Титова Людмила. Мне казалось, мы будем жить на свете вечно… С.37—38.
Киевский поэт Риталий Заславский в послесловии к книге Титовой пишет: «Наум Коржавин рассказывал мне, что Елагин в эмиграции не раз расспрашивал его о Людмиле Титовой» [18] Там же. С.49.
. Но едва ли что-нибудь разузнал. До девяностых годов молчала она о своей довоенной любви. Уже побывала в Москве вдова Елагина, Ирина Ивановна, и подписала договор на издание однотомника поэта в «Художественной литературе» [19] Книга дошла до сверки, но, к счастью, света не увидела: на сегодняшний день она устарела, слишком многие «тайные» факты стали «явными».
, и наговорил на диктофон свои воспоминания последний из оставшихся в живых младший брат Венедикта Марта, Георгий Матвеев, живший тогда под Москвой в Новоподрезкове, и припомнила Новелла Матвеева рассказ отца (Н.Н.Матвеева-Бодрого) о том, как детишки двадцатых годов играли с маленьким Заликом в чудесную советскую игру «погром», хотели его, как еврея, топить, он соглашался, но требовал, чтобы его, как полуеврея, топили тоже только по пояс; уже счет советских и постсоветских публикаций Елагина в Москве, Ленинграде, Владивостоке, Киеве, даже в Воронеже пошел на многие десятки, но Людмила Титова, навсегда перепуганная и советской, и немецкой властью, знать о себе не давала. Свою жизнь она прожила, как хотела — в тени.
Иван Елагин такой судьбы не захотел.
«Они с Люшей первое время очень бедовали…» — пишет Моршен.
«Бедовали» — слово, которое еще и не во всяком словаре отыщешь. А что именно означало оно в данном случае — того нет вовсе ни в каком словаре. Оставаясь верными принципу точного цитирования, обратимся к воспоминаниям Татьяны Фесенко об Ольге Анстей:
«Вода, принесенная в ведре издалека, к утру покрывается в нашей комнате ледяной корочкой. Нет отопления, нет электричества, нет даже базаров, которые немцы нещадно разгоняют в эту страшную первую зиму оккупации Киева, когда лютый мороз заставляет завоевателей ходить по домам поредевших киевских жителей и забирать у них свитеры, шарфы и даже дамские кофточки. Вечером по тротуарам стучат только подкованные немецкие сапоги – киевлянам выходить из дома запрещено – комендантский час». [20] Фесенко Т. Ольга Николаевна Анстей // Новый журнал (Нью-Йорк). 1985. №161. С.128.
Но жизнь теплилась, никто даже не настучал немцам про неарийское происхождение Ивана, да и не до того было замерзшим оккупантам: по пресловутым нюрнбергским законам он был бы зачислен не в евреи, а в «мишлинги»(полукровки), немедленной депортации не подлежал — это г-н Эйхман и его соратники откладывали на будущее, считали делом «второй срочности», даже в Берлине выжили кварталы полукровок, к примеру ученица Гумилева, русская поэтесса Вера Лурье. А молодежь в голодном и холодном Киеве в годы оккупации — странно писать об этом, но было так — жила искусством. Собирались молодые поэты и художники, их мужья и жены: Татьяна и Андрей Фесенко, Ольга и Иван Матвеевы, Николай Марченко, а также художник и поэт Сергей Бонгарт, — все они впоследствии эмигрировали в США, и дружба их сохранилась до конца жизни. Картины Бонгарта висели на стенах дома Елагина в Питсбурге, с Бонгартом Елагин пил пиво в Санта-Монике, поглядывая через Тихий океан в сторону родного Владивостока, Бонгарту посвятил одно из самых пронзительных своих «поминальных» стихотворений.
Читать дальше