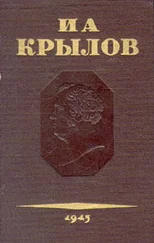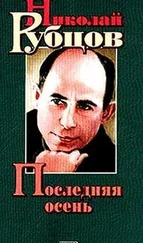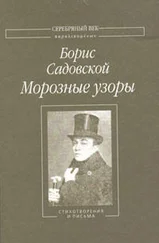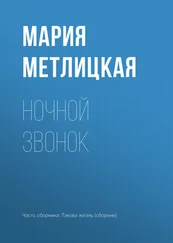Мэр жил в ратуше, на границе, отделявшей деревню от города. Это был огромный дом эпохи Людовика XIV, совершенно пустой в день нашего посещения (праздник). На площадке мраморной, полукругами спускавшейся лестницы, выветривался тюфяк, на котором спал кот. Комнаты мэра были громадны, с так называемыми «французскими» окнами-дверьми, и совсем без мебели, если не считать двух кресел, в которых, перед аппаратом радио сидел сам господин мэр, с козлиной седой бородкой, в жилете, и держал руки как распялки, на которых его старшая сестра, в огромных очках, навесила шерсть и наматывала ее на клубок, да великолепного ампирного дивана с бронзовыми грифонами и львами, на которых, привязанные за веревки, лежали четыре тоже старых, жирных фокса в розовых, вязаных попонах. Тюля шла на все унижения, чтобы спасти диван и выменять его на холодильник и еще какие-то земные блага, сильно соблазнявшие сестру мэра, ибо Тюля видеть не могла, что такое произведение искусства отдано фоксам и вообще погибнет. Сестра мэра долго вздыхала, видимо умирая от желания получить холодильник, но не сдалась, сказав со вздохом, что не может лишить собачек обивки наполеоновских времен, зеленой с золотыми пчелками, так как они любят с ними играть, делая вид, что ловят их, как мух, а теперь такой материи не делают, и, если для них поставят новый «диванчик», то они заскучают. Позже этот самый мэр и выдал немцу из замка удостоверение в его эльзасском происхождении…
Были там и полуразваленная мельница, где Тюля «своими глазами» видела водяного, поросшего тиной, и леса вокруг, словом, я так насладилась, что уехала просто со слезами…
Тюля была талантлива вся насквозь. Пропитана талантом и, неменьшей доле, фантазиями, а кроме того обладала тем безупречным вкусом, который я встретила, в моей жизни, только у нее и у художника Лукомского. Художником она была оригинальным и очень тонким… Работала она по театральным декорациям вместе с Анненковым, которого знала со времен Академии, иллюстрировала книги, а последние годы делала модели для больших портных, причем создавала их внезапно, по какому-то неожиданному вдохновению: среди разговора вдруг хватала ножницы, стригла газету и объявляла: «А вот новая ночная рубашка, и сшить ее проще простого. Завтра ее будет знать весь Париж». Такую рубашку я, между прочим, тут же научилась делать очень быстро и нахожу ее красивой и удобной. Она превратила старый сарай в «Тюлине» в изысканный зал «в Онегинском стиле», по эскизу Бенуа, работая сама с рабочими… Тюля умерла в 1963 году, как раз, когда мы с Михаилом Максимилиановичем приехали из Америки в Париж
Я рада, что успела их познакомить…
…Вернулась из клиники. Крылатый с каждым часом прогрессирует в своем выздоровлении. Оба целуем и всегда с Вами, родной Вы наш человек!
Ваша Вега
30.
18 мая 1972
Дорогая Светлана, Ваша первая часть письма – о смоле и землянике – меня поразила, да и было, чем поразить! Не только из всего А. К. Толстого, но и вообще, кажется, из всего, что накоплено с детских лет как стихотворный багаж, я особенно помню, и всю жизнь повторяю, как заклинание, в любом лесу: «И смолой, и земляникой пахнет темный бор». И о гномах тоже удивительно, потому что гномы для меня очень близкие существа. Про землянику – фонарики гномов, как Вам увиделось, я говорила этими самыми словами. Сейчас же расскажу о гномах, – с чего началось.
Заболев сыпным тифом, который тем интересен, что бред, при этой болезни, последовательный и, если начался, то продолжается неделями, создавая какую-то вторую жизнь, идущую рядом с реальной, я однажды ночью, свесив голову с койки, ясно увидела под ней, на полу барака, как съезжаются крошечные кибиточки. Из них вылезли гномики в колпачках, похожих на лесную землянику, вытащили из кибиток корзиночки и развели на полу костер, сложив его из спичек. Было очень интересно смотреть, как они что-то жарят, едят, сидя вокруг костра, подогнув под себя ножки, и только их жены не показывались, но я знала, что они остались сидеть в кибиточках.
После этой ночи, которая не помню, чем кончилась, пришли меня навестить два знакомых мальчика и принесли мне мелкую клубнику. Как выяснилось потом, эти славные ребята нанялись поработать к каким-то буржуям в сад и вместо оплаты попросили дать им парниковой клубники, а затем удрали от родителей, страшившихся заразы, и, рискуя схватить тиф, преподнесли мне эти дары земли. Помню, что у ягод был ужасный вкус, и я стала плеваться, плакать и сказала, что не хочу «этих гномовых колпаков». И еще помню, что кибитки пришли и на следующую ночь, и, вероятно, еще раза три, и что мне становилось все хуже, и свесить голову я почти не могла.
Читать дальше