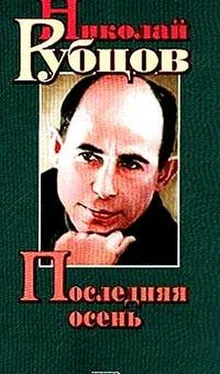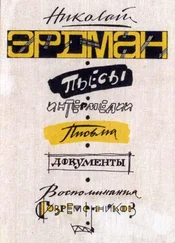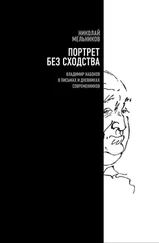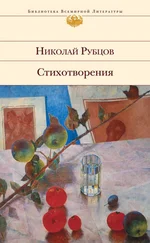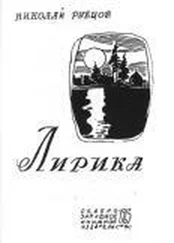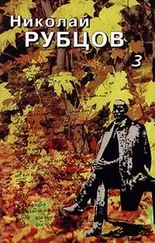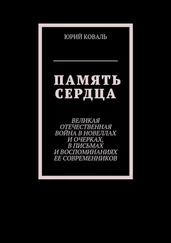И такая жалость накатила на меня, что присела на скамью, а привстать не могу. Ведь и я в сиротстве росла да вот во вдовстве бедствую. Как его не понять!.. А он стеснительно так подвинулся по лавке в красный угол, под иконы, обогрелся чаем да едой и стал сказывать мне стихотворения. Про детство свое, когда они ребятенками малыми осиротели и ехали по Сухоне в приют; про старушку, у которой ночевал, вот, поди-ко, как у меня; про молчаливого пастушка, про журавлей, про церкви наши Христовые, поруганные бесами…
Я вспугнуть-то его боюсь — так добро его, сердечного, слушать, а у самой в глазах — слезы, а поверх слез — Богородица в сиянье венца. Это обручальная моя икона… А Коля троеперстием-то своим так и взмахивает над столом, будто крестит стихотворения… Теперь уж не забыть его… Перед сном все карточки на стене пересмотрел да и говорит: „Родство-то у вас какое большое!“ Будто бы позавидовал. „Да, — говорю, — родство было большое, да не по времени. Извелось оно да разъехалось“. „Везде беда“, — только и услышала в ответ…
Поутру он встал рано. Присел к печному огню да попил чаю и заторопился в Воробьеве на автобус. Уж как просила подождать горячих пирогов, а он приобнял меня, поблагодарил и пошел в сумерки. Глянула в окошко — а он уж в белом поле покачивается. Божий человек…»
Так мать моя Александра Ивановна вспоминала о Николае Рубцове, а потом и сам он говаривал мне, как встречала да привечала она его в Петряеве. Это было за год или за два до гибели его, в предзимье, когда дорога на Двиницком волоку крепнет от первых морозов и трогаются автобусы и всякие попутки в дальние места. Возможно, он пробирался в Тотьму, в свои Палестины, и вздумал взглянуть и на мою деревню, отстоящую всего в пяти верстах от Тотемского тракта. Бог весть…
Рубцов любил внезапность знакомств и расставаний. Он возникал в местах, где его не ждали, и срывался с мест, где в нем нуждались. Вот эта противоречивость скитальческой души и носила его, вела по Руси. Однако такая видимая всем свобода на самом деле являлась не видимой никому зависимостью от его Поэзии. Это он выстраданно изрек: «И не она от нас зависит, а мы зависим от нее». В ту государственно-самодержавную пору такое откровение прозвучало вызывающей и подозрительной новостью. А в стихах его забелели обезглавленные храмы, словно вытаяли они из-под страшных сугробов забвенья. Сама природа русского духа давно нуждалась в появлении именно такого поэта, чтобы связать полувековой трагический разрыв отечественной поэзии вновь с христианским мироощущением. И жребий этот пал на Николая Рубцова. И зажегся в нем свет величавого распева и молитвенной исповеди.
И мать моя, истовая богомолка, сразу ощутила и приняла в его стихах это давножданное милосердие. И у меня иной раз при встречах с ним возникало дивное впечатление, что Рубцов пришел к нам не из города Тотьмы, а из града Китежа. Вот взгляните хотя бы на эти строки: «И вместе с чувством древности земли такая радость на душе струится, как будто вновь поют на поле жницы…» «И древностью повеет вдруг из дола», «лежат развалины собора, как будто спит былая Русь». Ведь эти слова зарделись в душе, «которая хранит всю красоту былых времен». У Николая Рубцова зрение (в обычном понимании) было как ясновидение времен.
Вот он пишет в «Осенних этюдах»:
А возле ветхой сказочной часовни
Стоит береза старая, как Русь, —
И вся она, как огненная буря,
Когда по ветру вытянутся ветви
И зашумят, охваченные дрожью,
И листья долго валятся с ветвей,
Вокруг ствола лужайку устилая…
Когда стихает яростная буря,
Сюда приходит девочка-малютка
И робко так садится на качели,
Закутываясь в бабушкину шаль.
Скрипят, скрипят под ветками качели…
Все здесь слышно и зримо: свистящий холодок доски, щемящий восторг высоты и разноцветье теплой родины. Эти качели Рубцова пролетают сквозь века, связуя их воедино вскинутыми в небо ручонками. Какая извечная беззащитность жизни! Потому и задевает нас глубокой печалью ответ девочки на вопрос поэта:
«…О чем поешь?» Малютка отвернулась
И говорит: «Я не пою, я плачу…»
Да, такие слова ребенка о многом свидетельствуют в нашей безлюбной и безжалостной жизни… Пыль времен не касается таких стихов, в которых душа перекликается с душою и плывут, как облака, высокие раздумья о жизни и о родине.
«ПОД ВЕТВЯМИ БОЛЬНИЧНЫХ БЕРЕЗ…»
…В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу