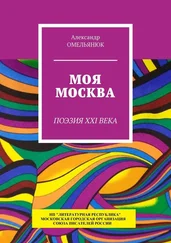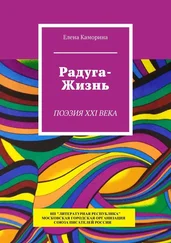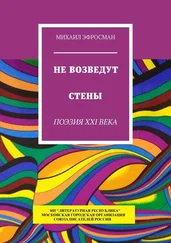Отдаю вам посох, сестры,
Отдаю с моей сумой.
По шестнадцать лет вам, сестры.
Продолжайте поиск мой.
Французский публицист виконт Д’Авенель разочарованно констатирует на пороге нового столетия, что «все наши современные битвы против стихий, все наши победы над материей в моральном плане не дали ничего» и скоро «человечество станет добычей ужасной скуки». Медик Макс Нордау, понося от имени здорового человечества современную литературу, и особенно поэзию, говорит о всеобщем «вырождении». А Леон Доде подводит решительный и обобщающий итог: «глупый XIX век» — и прямо так и называет свою нашумевшую в то время книгу.
Что же останется в нашей памяти как обобщающий образ века и его культуры?
* * *
Как и в разговоре о давнем рубеже XVIII и XIX веков, почему-то снова вспоминаются те самые стихи «на гранариум» сельского хозяина, что в 1800 году, аккуратно отмечая начало нового столетия, оставил нам венгр Михай Чоконаи. В общем ведь верно, что опыт прошедшего — это для нас какой-то «гранариум». Само слово — это, конечно, как раз «славяно-греко-латинский» позапрошлый век. Истина же — вечна: мы получаем от художества прошлого долгим трудом взращенный урожай — и легко усвояемые, «сладостные» плоды, и семена, которые еще должны будут прорасти. И наша задача сейчас лишь в одном: попытаться почувствовать особый вкус наследия прошлого века, особый смысл его уроков, выделяющий XIX столетие из бесконечной преемственности всех и любых столетий.
Каждый век прожит человечеством не впустую и поучителен для будущего. В любом из прошедших веков сегодняшний человек найдет то любопытный исторический прецедент, то отдельного созвучного себе поэта, то адресованный будто именно нам поэтический образ. Но XIX век для нас чрезвычаен и уникален. Только он один передает нам сразу все свои сомнения и споры. Именно в этот век давние размышления человечества о традиции и свободе, о «естественном» и «железном», о «культуре» и «цивилизации» дозрели до универсальных систем мышления. И, осознав самих себя, эти системы только в XIX веке прямо повернулись лицом друг к другу — с безошибочной точностью полюсов в едином магнитном поле. Добавим к этому истину, особенно важную для нас как читателей литературы художественной: прошлый век дал для такой переклички впервые познавших друг друга полюсов бытия законченные поэтические формулы. И благодаря поэзии, именно в то время научившейся с необычайным мастерством перелагать «идеи» в «тона и мелодии» (Бьёрнсон), мы воспринимаем наследие прошлого века не только разумом, но и всем существом, всей «нервной системой» своего самосознания и художественного вкуса.
Пусть современный читатель проверит эту особенность своего восприятия хотя бы на отдельных лозунгах-идеалах прошлого и нынешнего веков. Скажем — «Природа»: как велико сразу же оживающее рядом с мыслью богатство эмоциональных, лирических, художественных ассоциаций, сколько тревог и надежд и для сознания, и для чувства! «Не то, что мните вы, природа: не слепок, не бездушный лик…»; «природа-храм»; «природа не храм»; «людей люблю — природа ближе мне»; «и равнодушная природа…»; «природа — сфинкс». Вот взаимоотталкивающиеся и напряженно ищущие друг друга полюса в исканиях прошлого века. Но не тяготеем ли к ним еще и мы сами? Не они ли определяют как сущность, так и тонкие оттенки наших сегодняшних волнений?
Да, мы по-особому прочно прикованы к духовным полюсам культуры прошлого века. И особая тонность этой связи таит в себе очень многое: так живо и «нервно» — с полуслова, с поэтического оттенка — воспринимают не просто свое, но именно родное.
Могут сказать, что мир всегда был в каком-то смысле и полярно расчленен, и целен; что человечество всегда жило по общим историческим законам, на одной и той же планете. Это, конечно, так. Но именно в XIX веке мир понял, что он неделим, — как неделима и красота. И поэзия Европы тогда же выразила эту тягу к цельности и в ярких образах, и в больших эстетических программах — от союза «волшебных звуков, чувств и дум» и даже искусств до романтической мировой скорби и классического представления о единстве мира как его прочности. В каком-то смысле всегда была мировой и существовавшая на земном шаре литература. Но именно в XIX веке она осознала себя как мировая литература, нашла для себя в устах Гете сам этот термин (по-немецки действительно единое слово, Weltliteratur) — и само слово, как часто бывает, начало ускорять уже зародившийся процесс. Причем материки и миры встречались не только в «Западно-восточном диване» Гете или в «Саламбо» Флобера, но и в прямом давлении на литературную метрополию со стороны все большего числа «малых» и «новых» литератур. И снова чувствуешь, что единство и цельность XIX века обнаруживают себя именно как прочное единство с нашим временем. Не к нам ли с особым упорством апеллирует красота еще одной выработанной прошлым веком поэтической формулы: «Когда народы, распри позабыв, в великую семью объединятся…»?
Читать дальше