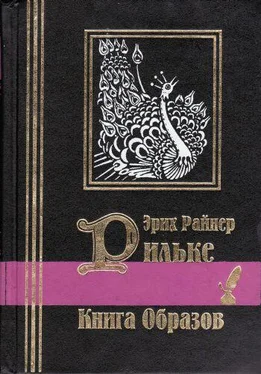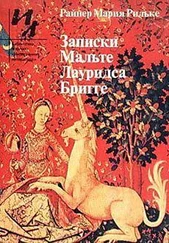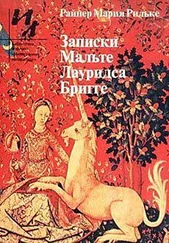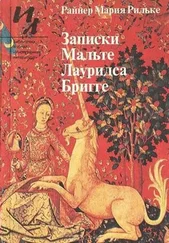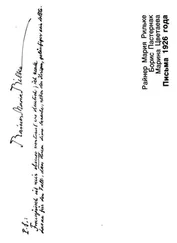неравно, что самих нас манит зло.
Ведь вот он, грех, коль есть какой
на свете:
не умножать чужой свободы всей
своей свободой. Вся любви премудрость —
давать друг другу волю. А держать
не трудно, и дается без ученья.
Ты тут еще? В каком ты месте? Ах,
как это все жило в тебе, как много
умела ты, когда угасла, вся
раскрывшись, как заря. Терпеть —
дар женщин.
Любить же — значит жить наедине.
Порой еще художники провидят:
в преображенье долг и смысл любви.
Здесь ты была сильна, и даже слава
теперь бессильна это исказить.
Ты так ее чуждалась. Ты старалась
прожить в тени. Ты вобрала в себя
свою красу, как серым утром будней
спускают флаг, и только и жила
что мыслью о труде, который все же
не завершен; увы, — не завершен.
Но если ты все тут еще, и где-то
в потемках этих место есть, где дух
твой зыблется на плоских волнах звука,
которые мой голос катит в ночь
из комнаты, то слушай: помоги мне.
Ты видишь, как, не уследя когда,
мы падаем с своих высот во что-то,
чего и в мыслях не держали, где
запутываемся, как в сновиденье,
и засыпаем вечным сном. Никто
не просыпался. С каждым подымавшим
кровь сердца своего в надежный труд
случалось, что она по перекачке
срывалась вниз нестоящей струей.
Есть между жизнью и большой работой
старинная какая-то вражда.
Так вот: найти ее и дать ей имя
и помоги мне. Не ходи назад.
Будь между мертвых. Мертвые не праздны.
И помощь дай, не отвлекаясь; так,
как самое далекое порою
мне помощь подает. Во мне самом.
Перевод Б. Пастернака
II. ПО ВОЛЬФУ ГРАФУ ФОН КАЛЬКРЕЙТУ
РЕКВИЕМ
Так я не знал тебя? А у меня
ты на сердце, как тяжесть начинанья
отсроченного. Сразу бы в строку
тебя, покойник, страстно почиющий
по доброй воле. Дал ли этот шаг
то облегченье, как тебе казалось,
иль нежитье — еще не весь покой?
Ты полагал: где не в цене владейье,-
верней кусок. Ты там мечтал попасть
в живые недра дали, постоянно,
как живопись, дразнившей зренье здесь,
и, очутившись изнутри в любимой,
сквозь все пройти, как трепет скрытых сил.
О, только бы теперь обманов чувств
не довершил ты прежнюю ошибку.
О, только б, растворенный быстриной,
беспамятством кружим, обрел в движенье
ту радость, что отсюда перенес
в мерещившуюся тебе загробность.
В какой близи был от нее ты здесь!
Как было тут ей свойственно и свычно,-
большой мечте твоей большой тоски.
……………………………….
Зачем ты не дал тяготе зайти
за край терпенья? Тут ее распутье.
Оно ее преображает всю,
и дальше трудность значит неподдельность.
Таков был, может быть, ближайший миг,
в венке спешивший к твоему порогу,
когда ты перед ним захлопнул дверь.
О этот звук, как бьет он по вселенной,
когда на нетерпенья сквозняке
отворы западают на замычку!
Кто подтвердит, что не дают щелей
ростки семян в земле; кто поручится,
не вспыхивает ли в ручных зверях
позыв к убийству в миг, когда отдача
забрасывает молнии в их мозг.
Кто знает, как вонзается поступок
в соседний шест; кто проследит удар,
когда кругом проводники влиянья.
И все разрушить! И отныне стать
навек такою притчей во языцех.
Когда ж герой в неистовстве души,
на видимости разъярясь, как маски,
срывает их и обнажает нам
забытое лицо вещей, то это
есть зрелище и зрелище навек.
И все разрушить. — Глыбы были вкруг,
и воздух веял предвкушеньем меры,
бессильный зданье будущее скрыть,
а ты, бродя, не видел их порядка.
Одна другую заслоняла; все
врастали в фунт, едва ты их касался
без веры, что подымешь; и один
загреб их все в отчаянье в охапку,
чтоб ринуть вниз в зияющую пасть
каменоломни. Но они не входят.
Ты покривил их страстью. — Опустись
на этот гнев, пока он был в зачатке,
прикосновенье женщины; случись
вблизи прохожий с недосужим взглядом
безмолвных глаз, когда ты молча шел
свершать свое; лежи дорога мимо
слесарни, где мужчины, грохоча,
приводят день в простое исполненье:
да нет, найдись в твоих глухих зрачках
местечко для сырого отпечатка,
преграду обходящего жучка,-
ты б тотчас же при этом озаренье
прочел скрижаль, которой письмена
ты с детства врезал в сердце, часто после
ища, не сложится ль чего из букв,
и строил фразы и не видел смысла.
Я знаю, знаю: ты лежал ничком
и щупал шрифт, как надпись на гробнице.
Читать дальше