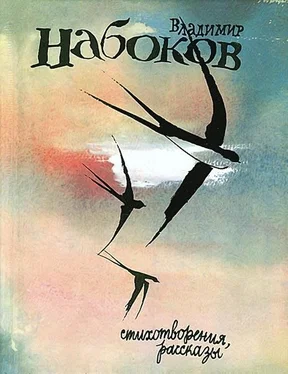Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно за окном была уже ночь. В темно-синем стекле загорелось желтое пламя — чуть коптящая лампа, — и скользнуло его большое, бородатое лицо.
Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные в синеватых розах стены, узкий шкап вроде конторского, с выдвижными ящиками снизу доверху, диван и кресла в чехлах, — и вдруг, уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы.
В столе он нашел тетради, расправилки, коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом, стоившим три рубля. О нем сын вспоминал, когда болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. Нашел он и порванный сачок — кисейный мешок на складном обруче, и от кисеи еще пахло летом, травяным зноем.
Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкапа. При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою поимку, пробивал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие, мягкие крылья. Теперь они давно высохли — нежно поблескивают под стеклом хвостатые махаоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в черных крапинках, с перламутровым исподом. И сын произносил латынь их названий слегка картаво, с торжеством или пренебрежением.
IV
Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Деревья — груды серого инея — отбрасывали черную тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку в глиняном горшке и как раз подвязывал к ее крестообразной макушке свечу, — когда Слепцов, озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке, пришел из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой. Увидя на столе елку, он спросил рассеянно, думая о своем:
— Зачем это?
Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил:
— Праздничек завтра.
— Не надо, убери… — поморщился Слепцов, и сам подумал: «Неужто сегодня Сочельник? Как это я забыл?»
Иван мягко настаивал:
— Зеленая. Пускай постоит…
— Пожалуйста, убери, — повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком. В нем он собрал вещи сына — сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, расправилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Первый лист тетради был наполовину вырван, на торчавшем клочке осталась часть французской диктовки. Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и другие заметы: «Ходил по болоту до Боровичей…», «Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом читал скучнейшую „Фрегат Палладу“», «Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел…»
Слепцов поднял голову, проглотил что-то — горячее, огромное. О ком это сын пишет?
«Ездил, как всегда, на велосипеде», — стояло дальше. «Мы почти переглянулись. Моя прелесть, моя радость…»
— Это немыслимо, — прошептал Слепцов, — я ведь никогда не узнаю…
Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, заворачивающий на полях.
«Сегодня — первый экземпляр траурницы. Это значит — осень. Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно тоскую…»
«Он ничего не говорил мне…» — вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб.
А на последней странице был рисунок пером: слон — как видишь его сзади, — две толстых тумбы, углы ушей и хвостик.
Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий.
— Я больше не могу… — простонал он, растягивая слова, и повторил еще протяжнее: — Не — могу — больше…
«Завтра Рождество, — скороговоркой пронеслось у него в голове. — А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же…»
Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы.
— …Смерть, — тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение.
Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь — горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес…
Читать дальше