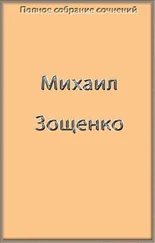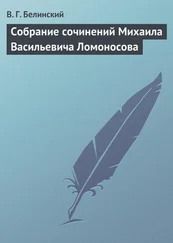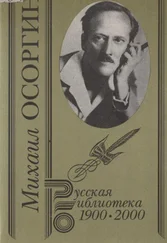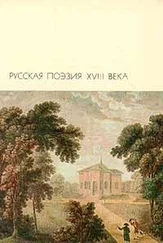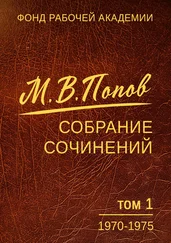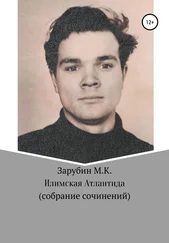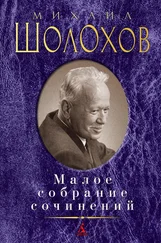Херасков еще продолжает повторять, что по-настоящему счастлив только тот, чей рассудок может обуздывать "бунтующие страсти", кто бежит опасных "умствований", но этот тезис системы классицизма доказывается теперь в духе сентиментальной чувствительности с непременным упоминанием о благодарных слезах, умаляющих скорбь по поводу земного неустройства. Получает новое оправдание и отказ от сатиры, имевший раньше у Хераскова религиозно-масонское обоснование. Теперь он говорит:
Коль душу чей разврат приводит в сожаленье,
Почтенна та душа в сердечном умиленье.
Как слез не проливать, беспутство зря в сердцах?
Ах! есть отрада, есть в печали и в слезах…
Нам слезы в горести есть сладкая роса,
Какую в знойный день даруют небеса.
(III, 311)
В 1800 году Xepaсков издал стихотворную повесть в семи песнях "Царь, или Спасенный Новгород". Спасать Новгород понадобилось от "ужаса безначальственного правления", а виновником бед послужил буйный и развратный юноша Ратмир. Под этим именем Херасков выводит упомянутого в Никоновской летописи Вадима Храброго, который выступил в 863 роду против первого варяжского князя Рюрика и был убит. Восстание Вадима послужило темой тираноборческой трагедии Я.Б. Княжнина "Вадим Новгородский" (1789), сочувственно подчеркнувшей горячее свободолюбие заглавного героя. Позднее тема новгородской вольности была затронута Рылеевым в думе "Вадим", на нее затем откликнулись Пушкин и Лермонтов (поэма "Последний сын вольности"). Херасков безоговорочно осуждает своего Ратмира-Вадима, через созданный им образ ведя полемику с Княжниным и пользуясь случаем излить свою неприязнь к французской буржуазной революции, в которой ему страшнее всего "безумное алкание равенства".
Несмотря на преклонный возраст, Херасков не ослаблял темпа литературной работы. В 1803 году, семидесяти лет от роду, он изумил современников, издав самое большое по объему свое поэтическое произведение — поэму "Бахариана", протяженностью в пятнадцать тысяч стихов. Название ее происходит от слова "бахарь" — говорун, рассказчик, сказочник. В подзаголовке стояло: "Волшебная повесть, почерпнутая из русских сказок".
Такое определение во второй своей части было не слишком точным — лишь отдельные мотивы фольклорного происхождения ввел Херасков в поэму, подобно тому как это делал в "Душеньке" Богданович. Гораздо ближе "Бахариана" стоит к типу волшебных повестей, который всегда манил Хераскова. Подобно другим его поэмам и романам, "Бахариана" имеет аллегорическое истолкование. В ней описываются приключения Неизвестного, личность которого открывается только в самом конце книги. Царевич Орион был изгнан из дома своего отца Тризония мачехой Змиоланой за то, что убил ее любовника-сокола. Заодно Змиолана превратила Тризония в вола, а жителей его царства Лицерны сделала мухами, змеями, сороками. Целью Неизвестного становятся поиски своей возлюбленной Феланы и волшебного зеркала, добыв которое он возвращает отцу и всем его подданным человеческий облик. Помогает ему при этом старец Макробий, символизирующий духовное просвещение, христианскую мудрость. Фелана обозначает непорочность, волшебное зеркало оказывается "чистой совестью", избавляющей человека от "скотства". Словом, говорит Херасков, обращаясь к читателю, —
Знай, что повесть странная сия,
Может быть, история твоя. [51] М. Херасков. Бахариана, или Неизвестный. М., 1803, стр. 436. (В дальнейшем указания на страницы этого издания даются в тексте.)
В "Бахариане" легко увидеть, что творческий метод Хераскова за полвека литературной деятельности проявил необыкновенную устойчивость. Изменялись темы его поэзии, оценки жизненных фактов, он следил за новостями литературы, но продолжал писать так, как писал десять, двадцать, сорок лет назад. Его, например, совсем не коснулось "открытие природы", совершенное в поэзии Державиным. Рационалистическая, морализирующая муза Хераскова, привыкшая представлять себе природу в чисто условных цветах и линиях, не могла взглянуть на нее непредубежденным взором и не испытала радости видения мира. Горы, долины, рощи, зефиры и хоры птичек, потоки и ручейки — вот "приятности весенны", набор которых был обязателен для Хераскова, как для Сумарокова и других поэтов-классицистов шестидесятых годов. С тем он вступил в литературу XIX века.
Оставаясь классицистом по существу художественного метода, Херасков, как уже говорилось, кое в чем отдает дань новым литературным веяниям, исходившим от бывшего его ученика — Карамзина. Поэт не подражает ему, но учитывает опыт, выбирая, например, для "Бахарианы" тот "русский размер" стиха, которым Карамзин написал "Илью Муромца", сделав этот размер модным. Однако Херасков, избегая метрического однообразия, монотонности, часть глав (семь из четырнадцати) пишет четырехстопным ямбом и хореем, с рифмой, признаваясь читателю:
Читать дальше