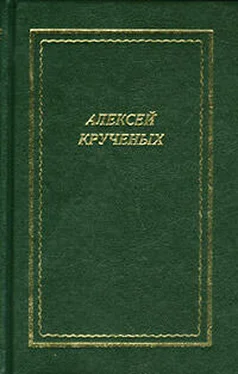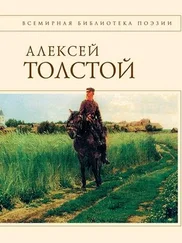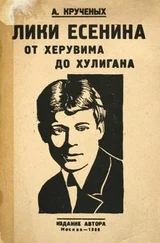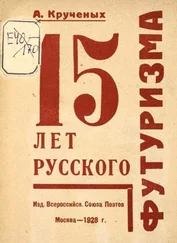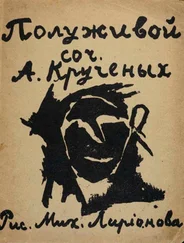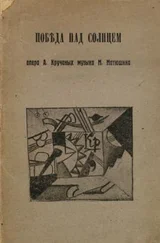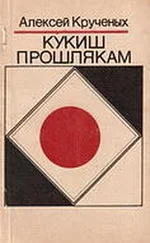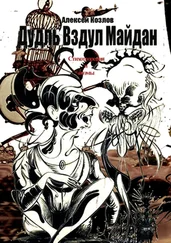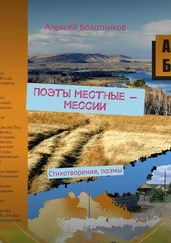Трудно сказать, насколько текст оперы, воспроизведенный на страницах книги, дает представление о самом действе. Для более полной оценки, конечно, было бы желательно и ознакомление с партитурой (из музыкальных инструментов в спектакле использовался только рояль), и с уникальной сценографической работой Малевича, впервые использовавшего в художественной практике чистые геометрические фигуры, к тому же перенесенные в трехмерное пространство сцены, и назвавшего позже свой метод «супрематизмом» (кстати, в оформлении «Победы над солнцем» впервые появился и черный квадрат — пока еще не в качестве самостоятельной картины, а как составляющая деталь задника).
Разумеется, современникам было сложно более или менее адекватно понять и оценить столь необычное во всех отношениях произведение — ведь вполне новаторским оно остается и сейчас. В опере Крученых-Матюшина впервые нашли отражение черты, свойственные многим знаковым явлениям драматургии и театрального искусства XX века, таким как театр дадаистов, сюрреалистов, обэриутов, драма абсурда [51] Н. И. Харджиев писал, что «в качестве автора „Победы над солнцем“ Крученых может быть назван „первым дадаистом“, на три года опередившим возникновение этого течения в Западной Европе» (Харджиев Н. И. Судьба Крученых. С. 302), впрочем, творчеству Крученых и других кубофутуристов были присущи в той или иной степени черты многих — если не всех авангардистских школ, групп, направлении; в связи с Крученых Б. Слуцкий писал, что «полтора десятилетия дадаизма и сюрреализма, труд полупоколения талантов Франции, Германии, Италии, Югославии был выполнен в России одним человеком» (Слуцкий Б. Крученых // Слуцкий Б. О других и о себе. М., 1991. С. 28).
.
5
Писательская продуктивность Крученых впечатляет. И дело не в объеме написанного. По количеству выпущенных книг — поэтических и теоретических — Крученых превзошел всех писателей-современников. Окончательный библиографический список его публикации в персональных и коллективных изданиях, а также книг, выпущенных по инициативе Крученых, определить чрезвычайно трудно, и на этот счет в имеющейся справочной литературе существуют серьезные расхождения (тем более, что некоторые издания, выпущенные «на правах рукописей», были не просто малотиражные, а буквально состояли из нескольких экземпляров). В книге «Зудесник» (М., 1922) Крученых сообщал, что «за время с 1912 по 1921 г. взлетело 97 книг» [52] Крученых А. Зудесник. Зудутные зудеса: Книга 119-ая. М., 1922. С. 17.
. На последней при жизни Крученых изданной книге значилось: «Продукция № 236» [53] Крученых А. Книги Н. Асеева за 20 лет: Продукция № 236. М., 1934.
.
Что же касается самих книг Крученых, то публикация произведений небольшими порциями, в виде маленьких брошюр, каждая из которых включала в большинстве случаев совсем немного стихотворений (это видно и по разделам настоящего издания), имела, по-видимому, несколько причин. Во-первых, каждая из книг Крученых имела свое концептуальное решение, свою эстетическую задачу, ощутить и осознать которые легче было на обозримом, локализованном материале. Это касается и собственно литературного материала, и полиграфической (технической) стороны издания, и иллюстративного материала. Так, лапидарные, минималистские стихотворения сборника «Взорваль» (СПб., 1913) существовали в неразрывной связи с графическими работами Кульбина, Гончаровой, Розановой, Малевича; в книгу «Поросята» (СПб., 1913; 2-е изд. — Пг., [1914]) для сопоставления с образцами футуристической поэзии были включены стихотворения одиннадцатилетней девочки (известен интерес Крученых к детскому творчеству, как и вообще интерес авангардистов к дилетантизму, «наиву», «примитиву» в искусстве); «Заумная гнига» — очевидный крен в сторону чистой зауми (здесь же — заумные стихотворения Романа Якобсона, в будущем — выдающегося ученого-структуралиста); «Лакированное трико» (Тифлис, 1919) — «оркестровая» поэзия (сочетания зауми и не-зауми) плюс эксперименты с шрифтами — оформительская работа Ильи Зданевича; «Фонетика театра» (М., 1923) — один из вариантов практического применения зауми в качестве «материалов для заумного зерцога (театра), и для работы с актерами» [54] Крученых А. Фонетика театра: Книга 123. М., 1923. С. 20.
; «Говорящее кино» (М., 1928) — попытка организации поэтического материала по принципам кинематографа (монтажный принцип, деление на кадры и т. д.); «Ирониада» и «Рубиниада» (обе — М., 1930) — образцы чистой любовной лирики, столь, казалось бы, не свойственной Крученых.
Читать дальше