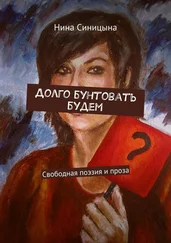А я тревожен, я бессилен,
Во мне и стук, и свист, и звон,
Ты знаешь город – он так пылен,
Я им навек порабощен.
(1903)
«Был ли день или ночь иль неверный рассвет?..»
Был ли день или ночь иль неверный рассвет?
Нестерпимо тешила мечта.
Скажи: это было иль нет? Это бред?
В уста не впивались уста?
Там поддались мы, и ты и я,
Наветам шепчущей тьмы?
Бедная девочка, радость моя,
Знаешь, что сделали мы?
(1903)
Меня зовете вы — союзник,
Меня влечете за собой, —
А я томлюсь, томлюсь, как узник
Меж вашей шумною толпой.
Мне безразличны все дороги,
Что вы избрали для борьбы.
Мне все равно — кто эти боги,
Которым шлете вы мольбы!
В вас дышит замысел глубокий,
Вы все узрели новый свет.
И вы гонимы, одиноки.
“Да, вы пророки — я поэт!”
Ах, я люблю одни обманы
Своей изнеженной мечты,
И вам неведомые страны
Самовлюбленной красоты!
(1903)
Буду ждать тебя завтра у двери,
Весь дрожа и ругая зиму,
Буду думать, что б сделал Валерий,
Если б ждать так пришлося ему.
Лишь появишься ты на площадке,
Озираясь по всем сторонам,
С затрудненьем сниму я перчатки
И изысканно руку подам.
И пойдем мы. В глухом переулке
Станет взор твой так нежно лучист,
Что в теченье всей нашей прогулки
Буду я чрезвычайно речист.
Говорить буду так поэтично —
Даже странно как будто слегка.
О, поэт я совсем необычный,
Но не всеми лишь признан пока.
Во вращенье земли я не верю,
В солнце тоже не верю давно,
Говорить буду словно Валерий,
Значит, очень и очень умно.
О, Валерий. Талант он громадный,
Ты его прочитаешь всего.
Да теперь уж, как это отрадно,
Признавать начинают его.
О, Валерий, Валерий, Валерий…
Впрочем, после могу досказать,
Не заставь только завтра у двери
Слишком долго тебя поджидать.
Неумолкающий, гулко-спутанный шум — голосок, шагов, звякающих ножей и посуды,— яркий блеск, который тоже кажется гулким и шумным, снова говор, шелестенье и гам, — и надо всем, все покрывая, слепящий электрический свет, отражаемый стенами, зеркалами и хрустальными вахтами столах. Тревожно, искристо, возбужденно-шумно в кофейне, Заняты, заполнены уже почти все столы, но то и дело протискивается кто-нибудь новый вперед, — спокойный, изящный мужчина или горделивая женщина в порывисто-изогнувшейся шляпе.
– Вы разрешите к вам присесть?
Та, к которой это относилось, подняла глаза. Перед ней стоял молодой человек среднего роста с небольшими усами, в черном котелке и пальто. Он был нисколько бледен и улыбался напряженно. Она опять опустила глаза и сказала тихо, словно недоумевая:
– Пожалуйста.
Он сел как-то подчеркнуто-развязно. Рядом с собою на желто-серый мраморный столик положил котелок, примостил тросточку. Она сидела неподвижно, слегка нагнувшись вперед со спущенными под стол руками. В ней было что-то странное. Слезная, худая, с большими прозрачными глазами, – какая-то необычная она здесь. Он это сейчас же заметил и потому, может быть к ней и подошел. И теперь он глядел на нее с удивлением.
– Что же мы спросим? Шоколаду, кофе? Чего вы хотите?
Она не хотела ничего. Показала на стоящую перед нею на желто-мраморном столике пустую чашку из-под шоколада и хрустальную вазочку с белым клубком мороженого, похожим на искусно скатанный снежок. Он все же подозвал лакея, заказал ему что-то. Лакей сгибался, точно пружинная кукла.
– Вы давно уже здесь? Пришли развлечься? Здесь шумно и весело.
Ему чувствовалось что-то деланное в этих словах, как бы слегка выпытывающее.
Она не находила, что здесь весело. Ей надоели кофейни. Когда, что-нибудь сказав, она сжимала губы, углы ее рта опускались вниз, и в этом было что-то усталое, безнадежное, может быть, презрительно–мудрое.
Вдруг вырвалась откуда-то музыка, яркая, бередящая, словно беспокойно-разноцветная. Никто не слушает ее, никто не отдался ее возбужденным порывам. Но еще многолюднее и оживленнее стало и в кафе. Забегали официанты, сгибаясь и выпрямляясь, точно пружинные куклы. Вновь и вновь раскрывается широкая зеркальная дверь, впуская то черный котелок, то пышную дамскую шляпу.
Читать дальше