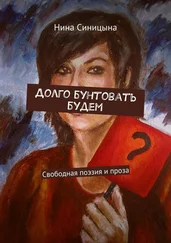Невидимую даму, с которой танцевал Гофман, звали все так же: Неврастения. О ней сообщает он в письме из Павловска: «В субботу, на бенефисе здесь, я танцевал – Бог знает с кем и как. Впрочем, о таком позоре лучше не рассказывать. Неврастения моя продолжается. Помыслы о гипнотизме привели пока к выписке шарлатанской книжонки по газетам, где обещаются чудеса, если выписать еще 12-рублевый курс. Завтра отправлюсь (немедленно) к градоначальнику испрашивать разрешение на револьвер. Хочу стрелять лягушек».
Одиночество, призрачность окружающего, белые ночи («светлое безумие весны», как называл их Гофман) — и мучительные поиски любви, большой, настоящей,— «строгого счастия»… И постоянные мысли о себе, о своей судьбе, жизни, попытки что-то перестроить, начать все сызнова. Постоянная слежка за собой, старание отгадать будущее по отрывочным намекам настоящего — и страх перед этим будущим. «Я опять много думал о своей жизни и себе и опять придумал много нового. Во мне все меняется… Не кажется ли Вам, что у меня меняется почерк? Что бы это значило?» — пишет он однажды. А в другой раз: «Вы замечаете, между прочим, что я уже дважды пропустил слова: это очень дурной, говорят, признак…»
В таком состоянии Гофман весною 1911 г. уехал из Петербурга. «Я еду таким путем: Гельсингфорс, Стокгольм, Готеборг, Антверпен, Брюссель, Париж», — сообщает он.
За границей Гофман работал довольно много. В бумагах его сохранились наброски рассказов и вещи почти законченные. Сохранилось также множество листков с подготовительными замечаниями для будущих статей. По-видимому, одна из них должна была быть посвящена творчеству Стендаля. Темой другой статьи была поэзия И. А. Бунина.
Париж очаровал Гофмана. 14 июля, по новому стилю, в день французского национального праздника, он пишет:
«Он грязный, тесный, душный, этот Париж, но сумасшедше-веселый. Все охвачено каким-то неудержимым весельем, драгоценным легкомыслием, которого не знаем мы. На улицах играют, поют, танцуют, на улицах целуются и любят… Сегодня 14 июля, республиканский праздник. Вчера поэтому вместе со всем Парижем я не спал почти всю ночь».
Он сам танцевал на улице с одной русской дамой, где-то около бульвара Сен-Мишель.
Однако напряженная работа, которой он сперва предался за границей, вскоре, видимо, стала менее интенсивной. Усталость опять давала себя знать. «Мне кажется, — писал он в том же письме, — что я стал невосприимчив, замкнут для впечатлений, мало беру от того, что встречается мне. Я задавался целым рядом намерений, отправляясь сюда. Вряд ли, однако, осуществлю их. Хожу, впрочем, пока, в здешнюю публичную библиотеку – воспитываю себя. Обратно иду мимо Пантеона – гробницы великих людей. Как странно попасть потом на наш бульвар, где живу я и где маленькие люди веселятся и любят».
Одиночество опять становилось для него тягостным. Избегая сперва встреч с русскими писателями, которых в то лето было довольно много в Париже, – вскоре Гофман уже ищет таких встреч, охотно принимает участие в прогулках, скитаниях по кафе и проч.
Все же он был в Париже довольно спокоен, ровен. Рассказывал знакомым, что занимается спортом, гимнастикой, стрельбой из револьвера. Но вдруг события понеслись с бессмысленной быстротой. В пятницу, 11 августа по старому стилю (30 июля по новому), Я. А. Тугендхольд, бывший тогда в Париже, получил от Гофмана записку: «Дорогой Я. А., со мной случилось смешное несчастие: из того револьвера, о котором я Вам говорил, я прострелил себе палец. Главная опасность заключается не в ране, а во французских врачах, шарлатанах. Не могу найти ни одного добросовестного. Когда будете в Париже, непременно зайдите».
Рана, действительно, была пустячная, но Виктор Викторович очень волновался. Его записная книжка испещрена была адресами врачей и лечебниц. Но французским врачам он не верил и метался от одного к другому, пока, наконец, знакомые не направили его к русской женщине-врачу. Та успокоила Гофмана, сказав, что рана в полном порядке.
Но на другой день у Гофмана появился жар. Это было никак не от раны, которая уже почти зажила. Гофман говорил, что, вероятно, это брюшной тиф и что если это так, то он поедет в Москву, к матери, которую очень любил. Одна русская дама предлагала Виктору Викторовичу в случае, если ему придется лечь, переехать к ней. У нее была свободная комната, и он был бы не один, тогда как в гостинице ухаживать за ним было некому. Вопрос об этом должен был решиться в воскресенье, 13 августа по новому стилю (31 июля по старому). В этот условленный день, как рассказывает г. Тугендхольд, «m-llе S. утром в 10 1/2 час. стучалась у его (Гофмана) двери, но, не получая ответа решила, что он вышел из дома, и, оставив записку, что вернется, ушла. Когда она вернулась снова, ей сообщили, что в 11 час. гарсон отеля, зайдя к нему в комнату для уборки, нашел его бездыханным на полу. Хозяин гостиницы признался, что в 9 часов утра В. В. вызвал его звонком и, расхаживая по комнате, сказал: "Зовите полицию, я сошел с ума". Когда же хозяин принялся успокаивать его, что он шутит, В. В. прибавил: “Хорошо, хорошо, – можете идти; я напишу письма и немного пройдусь; надо прибрать комнату; ко мне должна прийти барышня…”
Читать дальше