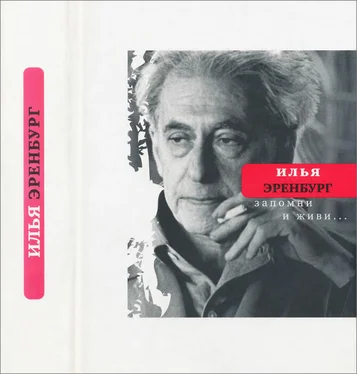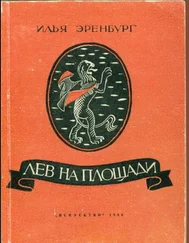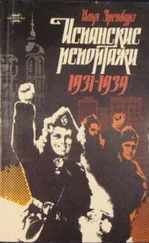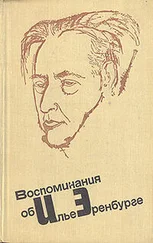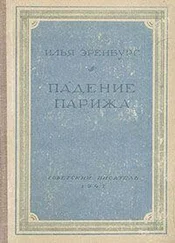Отречение это связано с вольным или невольным выбором страны: «Нет свободы, ее разлюбили люди. / Свобода сон, а ныне день труда…», оно — вынужденное: «Умевший дерзать — умей примириться».
Отречение от прошлого, от свободы и еретичества оказалось для Эренбурга процессом долговременным и никогда не было полным; в 1920 году оно — скорее декларативно.
Конечно, в 1920-м Эренбург не видел контуров будущего и даже обмолвился о «пути бесцельном»; говоря о новом веке, он называл его темным. Однако плач по прошлому был закончен.
К концу затянувшейся войны Эренбург, как казалось, обрел некоторое душевное спокойствие: «Всё, что понять не в силах, / Прими и благослови». Он понимает, что это приятие-отречение не сулит лавров:
…За то, что в душе моей смута,
За то, что я слеп, хваля и кляня, —
Назовут меня люди отступником
И отступятся от меня…
В Париже Эренбург думал о предназначенной России мировой роли (усиленный войной французский шовинизм обострил его славянофильские настроения). Теперь, когда эпоха смуты завершалась, а будущее оставалось неясным, Эренбург — европеец и парижанин — испытывал на переломе судьбы отталкивание (в итоге несостоявшееся) от Запада:
О, радость жить на рубеже, когда чисты скрижали,
Не встретить дня и не обресть дорог,
Но видеть, как истаивает запад дальний
И разгорается восток.
Перелом в воззрениях на гражданскую войну в России, столь явственно запечатленный в цикле стихов «Ночи в Крыму», перелом, определившийся не только содержанием и итогом политических и военных событий 1919–1920 годов, но и чертами личности Ильи Эренбурга, предопределил в значительной степени его дальнейшую судьбу.
Вскоре по приезде в Москву, 25 октября 1920 года, Эренбург был арестован как агент Врангеля и помещен во внутреннюю тюрьму ВЧК, откуда его вызволил Бухарин. Так восстановились связи поэта с друзьями юности (затем Л. Б. Каменев помог ему обзавестись одеждой, а Н. И. Бухарин через Менжинского — тоже парижского знакомца! — оформил зарубежную командировку).
В цикле стихов «Московские раздумья» (январь — февраль 1921), написанных в продолжение «Ночей в Крыму», мысли о «новом веке» окрашены в суровые тона московской жизни:
Москва! Москва! Безбытье необжитых будней,
И жизни чернота у жалкого огня.
Воистину, велик и скуден
Зачин неведомого дня.
Новые пророчества — точные, ясные, беглый рисунок будущего не сатиричен, но всё же не противоречит замятинской антиутопии:
Провижу грозный город-улей,
Стекло и сталь безликих сот…
Эренбург не отвергает грандиозного плана, думая о котором, соотносит Ленина с Петром, хотя, симпатизируя «размытому уюту» прежних дней, сочувственно допускает, что:
Какой-нибудь Евгений снова возмутится
И каменного истукана проклянет —
Усмешку глаз, и лик монгольский,
И этот трезвенный восторг…
Он искренен, когда признается: «Революция, трудны твои уставы!» и когда надеется, что его будущий читатель:
Средь мишуры былой и слов убогих,
Средь летописи давних смут
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.
В марте 1921-го, переполненный нереализуемыми в Москве литературными планами, среди которых сатирический роман «Хулио Хуренито» (этот замысел обсуждался с Бухариным, именно под него была получена «командировка») и книга о новом левом русском искусстве, напомнившем прорывы в будущее ротондовских художников, рукописи стихов и «Портреты русских поэтов», начатые еще в Киеве, а законченные в Москве, — со всем этим духовным и материальным багажом Эренбург сел в вагон «Москва — Рига» и отбыл с женой на Запад, намереваясь осесть в Париже. Уже в поезде он написал стихи, в которых есть внутренняя раскованность, какой, пожалуй, не хватает «Московским раздумьям»; она и в признаньях: «Повторить ли, что я не согласен, / Что мне страшно?..», и в зарисовках, и в откровенной надежде на недалекое будущее, когда Москва забудет «обиды всех разлук» и ответит «гулом любящим на виноватый стук».
Начинается новая, уникальная для тогдашнего русского литературного мира полоса жизни Эренбурга: на Западе, но с советским паспортом. Она продолжалась почти двадцать лет, приносила победы и горести, благополучие и лютое безденежье, почти полную свободу и литературные обязанности, жизнь, которой одни завидовали, другие ее осуждали, жизнь, на которую ссылался Замятин, прося Сталина отпустить его в Париж, жизнь, за которой всегда присматривала Москва — иногда сочувственно, иногда очень опасно. Стихи писались лишь поначалу этой жизни (отчасти как бы между прочим, по инерции) и в ее конце — совсем всерьез, и — лучшие у Эренбурга.
Читать дальше