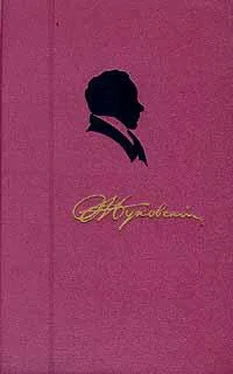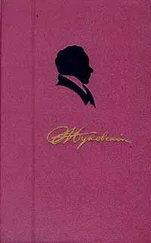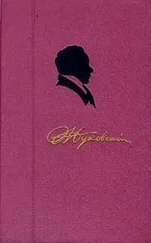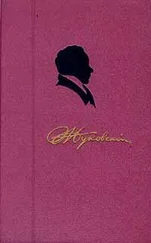Иначе, чем это дано в оригинале, воплощает Жуковский и лирическую тему. В оригинале героиня говорит своему возлюбленному, склоняя его к свиданию в неурочный час: «Да что ты, слабодушный рыцарь! Ты не должен говорить мне „нет“. Вечер этот приятен и при встрече любовников стоит целого дня». У Жуковского:
О, сомнение прочь! безмятежная ночь
Пред великим Ивановым днем
И тиха, и темна, и свиданьям она
Благосклонна в молчанье своем.
В этих стихах — атмосфера возвышенной поэтичности, отсутствующая в приведенной строфе оригинала («О, сомнение прочь» вместо «да что ты», «безмятежная ночь» вместо «вечер этот приятен»). Жуковским вводится выражение «великий Иванов день», и слово «великий», относясь непосредственно к «Иванову дню», окрашивает в то же время весь контекст, приподымая самую тему любви (заодно Жуковский снимает слово «любовники»). Принадлежит Жуковскому и образ ночи, «тихой и темной», «благосклонной в молчанье своем», образ опять мечтательно-лирический и нисколько не упрощающий оригинал («вечер этот приятен»), а, наоборот, его обогащающий. Подобные примеры легко было бы умножить.
Переводческие принципы Жуковского не были одними и теми же на протяжении всего его творческого пути. В 1800-х и в начале 1810-х годов Жуковский кардинально видоизменяет текст, преобразуя его в сентиментально-элегическом направлении («Сельское кладбище», «Людмила», «Светлана»). В дальнейшем «простонародную» грубость Жуковский также всегда сглаживает, но выбирает такие образы, где «простонародность» не является основным признаком.
В 1810-х годах, в период своего наибольшего творческого расцвета, Жуковский достигает сложных результатов: несколько ослабляя конкретно-описательную часть, он все же сохраняет местный колорит оригинала; вместе с тем сгущает его лирическую атмосферу и даже вводит новые темы и образы обобщенно-лирического и символического плана.
В конце 1810-х и в последующие годы Жуковский становится на путь более точной передачи оригинала. Переведенные во второй половине его творческого пути баллады Шиллера, Гете, Уланда, Саути, «Шильонский узник», «Орлеанская дева», «Одиссея», «Наль и Дамаянти», «Рустем и Зораб» — переводы иного плана, чем свободные переложения прежних лет.
В наибольшей степени созвучен Жуковскому был Шиллер. Его привлекали человечность, поэтическая одушевленность поэзии Шиллера, близкое ему самому стремление к «идеалу». Кроме ряда баллад, Жуковский перевел «Орлеавскую деву». Он находил пьесы Шиллера более сценичными, чем пьесы Гете; намеревался перевести «Дон Карлоса».
8
Иногда поэтический голос Жуковского совершенно неверно трактуется как однообразный. Между тем Пушкин писал: «Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его». [38] Письмо П. А. Вяземскому от 25 мая 1825 года.
Наряду с медитативной элегией, наряду со столь отличной от нее песней-романсом, в творчестве Жуковского есть замечательные произведения «поэзии мысли», — попытки воплотить сложную, стремящуюся познать законы человеческой жизни мысль, часто трагическую и философски значительную. Эти устремления в наибольшей степени выражены в «античных» балладах, в стихотворении «Цвет завета», послании к Александре Федоровне (1818) и в особенности в элегии «На кончину ее величества королевы Виртембергской». Последняя представляет собой, по словам Белинского, «скорбный гимн житейского страдания». Жуковский рисует смерть Екатерины Павловны, сестры Александра I, не как смерть королевы (само это слово фигурирует только в названии), но как смерть молодой и красивой женщины; тема стихотворения — трагичность и несправедливость безвременной смерти молодой матери и жены. Жуковский последователен и верен своему несоциальному принципу изображения человека; мы видим в элегии как бы другой полюс его лишенного социальности гуманизма: на одном полюсе был «селянин», на другом теперь — королева Виртембергская, и в обоих Жуковский выявляет гласное, «святейшее из званий — человек» (программный для Жуковского стих из послания Александре Федоровне, 1818 г.). Нет надобности подробно останавливаться на совершенно очевидных слабых чертах такого подхода к изображению человека. Ведь социальное начало, о чем в другой связи уже шла речь, является определяющим фактором в формирования самой человеческой психологии. Однако, при всех слабых сторонах своей концепции, Жуковский в этой элегии действительно с огромной силой и в отличие от своих песен-романсов, с большой степенью психологической и философской дифференциации, и детализации воссоздает человеческое переживание и смятенную несправедливостью судьбы человеческую мысль:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу