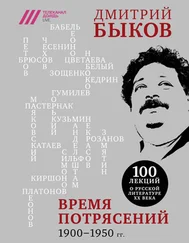1998 год
И если есть предел времен,
То зыбкий их объем
Меж нами так распределен,
Чтоб каждый при своем.
Я так и вижу этот жест,
Синклит на два десятка мест,
Свечу, графин, парчу,—
Среду вручают, точно крест:
По силам, по плечу.
Нас разбросали по Земле —
Опять же неспроста,—
И мы расселись по шкале,
Заняв свои места.
Грешно роптать, в конце концов:
Когда бы душный век отцов
Достался мне в удел,
Никто бы в груде мертвецов
Меня не разглядел.
Кто был бы я средь этих морд?
Удача, коли бард…
Безумства толп, движенье орд,
Мерцанье алебард —
Я так же там непредставим,
Как в адской бездне херувим,
Как спящий на посту,
Иль как любавичский Рувим,
Молящийся Христу.
А мне достался дряхлый век —
Пробел, болото, взвесь,
Седое небо, мокрый снег,
И я уместен здесь:
Не лютня, но и не свисток,
Не милосерден, не жесток,
Не молод и не стар —
Сверчок, что знает свой шесток,
Но все же не комар.
…Ах, если есть предел времен,
Последний, тайный час,—
То век грядущий припасен
Для тех, кто лучше нас.
Наш хлеб трудней, словарь скудней,
Они нежны для наших дней,
Они уместней там,
Где стаи легких времирей
Порхают по кустам.
Там нет ни ночи, ни зимы,
Ни внешнего врага.
Цветут зеленые холмы
И вешние луга.
Страдают разве что поэт
Да старец, после сотни лет
Бросающий курить;
Там, может быть, и смерти нет —
Не все же ей царить!
…Но нет предела временам
И радости — уму.
Не век подлаживался к нам,
А мы, увы, к нему.
В иные-прочие года,
Когда косматая орда
Имела все права,—
Я был бы тише, чем вода,
И ниже, чем трава.
Я потому и стал таков —
Признать не премину,—
Что на скрещении веков
Почуял слабину,
Не стал при жизни умирать,
И начал кое-что марать,
И выражаться вслух,
И отказался выбирать
Из равномерзких двух.
И запретил себе побег
И уклоненье вбок,—
А как я понял, что за век,—
Об этом знает Бог.
И не мечтал ли в восемь лет
Понять любой из нас,
Откуда ведает брегет,
Который нынче час?
2000 год
Открыток для стереоскопа набор уютно-грозовой,
В котором старая Европа в канун дебютной мировой.
Там поезд движется к туннелю среди, мне кажется, Балкан,
Везя француза-пустомелю, в руке держащего бокал,
А рядом — доброе семейство (банкира, пышку и сынка),
Чье несомненное еврейство столь безнаказанно пока;
В тумане столиков соседних, в размывчатом втором ряду
Красотке томный собеседник рассказывает ерунду;
Скучая слушать, некто третий в сигарном прячется дыму,
Переходящем в дым столетий, еще не ведомых ему.
Покуда жизнь не растеряла всего, чем только дорога,—
В окне вагона-ресторана плывут балканские снега.
Как близок кажется отсюда объемный призрачный уют —
Слоится дым, блестит посуда, красотке кофе подают…
Она бледна, как хризантема, и декаданс в ее крови —
Восстановима даже тема ее беседы с визави —
Должно быть, Гамсун. Или Ибсен, норвежский баловень молвы.
(Сегодня это был бы Гибсон. Все деградирует, увы.)
Немудрено, что некто зыбкий, в углу невидимый почти,
С такой язвительной улыбкой в мои уставился зрачки:
Он знает все. Как эти горы, его душа отрешена.
Какие, к черту, разговоры, какие, к черту, имена?!
Но есть восторг священной дрожи, верховной воли торжество —
А погляди на эти рожи: никто не смыслит ничего.
Ребенок разве что, играя в большое красное авто,
В надежности земного рая порою чувствует не то,
И чуть не взрослая забота проходит тенью по лицу:
За ними наблюдает кто-то, и надо бы сказать отцу…
Но бездна близится, темнея. Уже видны ее края.
Сказать вам, что в конце туннеля? В конце туннеля буду я,
С угрюмой завистью холопа и жаркой жалостью певца
Глядящий, как ползет Европа к началу своего конца.
Я знаю, тайный соглядатай с закинутою головой,
Про ваш пятнадцатый, двадцатый, тридцатый и сороковой.
В начале всякий век обманчив, как древле молвил Мариво,
И ты не зря, несчастный мальчик, боишься взгляда моего.
В той идиллической картине, меж обреченных хризантем,
Ползя меж склонами крутыми, кем быть хотел бы я? Никем.
Никем из них, плывущих скопом среди вершин и облаков,
Ни снегом, ни стереоскопом, как захотел бы Щербаков,
Ни облаками на вершине, что над несчастными парят,
Ни даже тем, кто смотрит ныне в старинный странный аппарат.
Как жмемся мы в свои конуры, в халупы, в чадный дух семьи!
У нас такие тут кануны! У вас свои, у нас свои.
Читать дальше