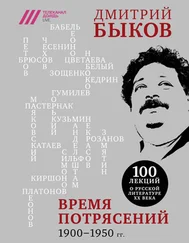И Бог мне порою понятней чужой,
Завесивший лучший свой дар паранджой
Да байей по самые пятки,
Палящий, как зной над резной белизной,—
Чем собственный, лиственный, зыбкий, сквозной,
Со мною играющий в прятки.
С чужой не мешает ни робость, ни стыд.
Как дивно, как звездно, как грозно блестит
Узорчатый плат над пустыней!
Как сладко чужого не знать языка
И слышать безумный, как зов вожака,
Пронзительный крик муэдзиний!
И если Восток — почему не Восток?
Чем чуже чужбина, тем чище восторг,
Тем звонче напев басурманский,
Где, берег песчаный собой просолив,
Лежит мусульманский зеленый залив
И месяц висит мусульманский.
1998 год
Совок бессмертен. Что ему Гекуба?
Не отрывая мундштука от губ,
Трубит трубач, и воет из раструба
Вершина, обреченная на сруб.
Вселенской лажи запах тошнотворный,
Чужой толпы глухой водоворот,
Над ним баклан летает непокорный
И что-то неприличное орет.
Какой резон — из-под родного спуда
Сбежать сюда и выгрызть эту пядь?
Была охота ехать вон оттуда,
Чтоб здесь устроить Жмеринку опять.
Развал газет, кирпичные кварталы,
Убогий понт вчерашнего ворья…
О голос крови, выговор картавый!
Как страшно мне, что это кровь моя.
Трубит труба. Но там, где меж домами
Едва обозначается просвет,—
Там что-то есть, не видимое нами.
Там что-то есть. Не может быть, что нет.
Там океан. Над ним закат в полнеба.
Морщины зыби на его челе.
Он должен быть, — присутствующий немо
И в этой безысходной толчее.
Душа моя, и ты не веришь чуду,
Но знаешь: за чертой, за пустотой —
Там океан. Его дыханье всюду,
Как в этой жизни — дуновенье той.
Трубит труба, и в сумеречном гаме,
Извечную обиду затая,
Чужая жизнь толкается локтями —
Как страшно мне, что это жизнь моя!
Но там, где тлеют полосы заката
Хвостами поднебесных игуан —
Там нечто обрывается куда-то,
Где что-то есть. И это — океан.
1995 год
«Под бременем всякой утраты…»
Под бременем всякой утраты,
Под тяжестью всякой вины
Мне видятся южные штаты —
Еще до Гражданской войны.
Люблю нерушимость порядка,
Чепцы и шкатулки старух,
Молитвенник, пахнущий сладко,
Вечерние чтения вслух.
Мне нравятся эти южанки,
Кумиры друзей и врагов,
Пожизненные каторжанки
Старинных своих очагов.
Все эти О'Хары из Тары,—
И кажется, бунту сродни
Покорность, с которой удары
Судьбы принимают они.
Мне ведома эта повадка —
Терпение, честь, прямота,—
И эта ехидная складка
Решительно сжатого рта.
Я тоже из этой породы,
Мне дороги утварь и снедь,
Я тоже не знаю свободы
Помимо свободы терпеть.
Когда твоя рать полукружьем
Мне застила весь окоем,
Я только твоим же оружьем
Сражался на поле твоем.
И буду стареть понемногу,
И может быть, скоро пойму,
Что только в покорности Богу
И кроется вызов ему.
1998 год
Бабах! из логова германских гадов
Слышны разрывы рвущих их снарядов,
И свист ужасный воздух наполняет,
Куски кровавых гуннов в нем летают.
Эдвард Стритер (перевод. И.Л.)
Люблю тебя, военная диорама,
Сокровище приморского городка,
Чей порт — давно уже свалка стального хлама,
Из гордости не списанного пока.
Мундир пригнан, усы скобкой, и все лица
Красны от храбрости и счастья, как от вина.
На горизонте восходит солнце Аустерлица,
На правом фланге видны флеши Бородина.
Люблю воинственную живость, точней — свежесть.
Развернутый строй, люблю твой строгий, стройный вид.
Швед, русский, немец — колет, рубит, скрежет,
И даже жид чего-то такое норовит.
Гудит барабан, и флейта в ответ свистит и дразнится.
Исход батальи висит на нитке ее свистка.
— Скажи, сестра, я буду жить? — Какая разница,
Зато взгляни, какой пейзаж! — говорит сестра.
Пейзаж — праздник: круглы, упруги дымки пушек.
Кого-то режет бодрый медик Пирогов.
Он призывает послать врагу свинцовых плюшек
И начиненных горючей смесью пирогов.
На правом фланге стоит Суворов дефис Нахимов,
Сквозь зубы Жуков дефис Кутузов ему грубит,
По центру кадра стоит де Толли и, плащ накинув,
О чем-то спорит с Багратионом, но тот убит.
Читать дальше