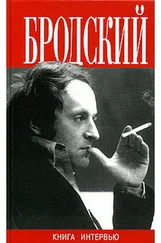И хор цикад нарастает по мере того, как число
звезд в саду увеличивается, и кажется ихним голосом.
Что — если в самом деле? «Куда меня занесло?» —
думает Эрлих, возясь в дощатом сортире с поясом.
До станции — тридцать верст; где-то петух поет.
Студент, расстегнув тужурку, упрекает министров в косности.
В провинции тоже никто никому не дает.
Как в космосе.
1993
Не надо обо мне. Не надо ни о ком.
Заботься о себе, о всаднице матраца.
Я был не лишним ртом, но лишним языком,
подспудным грызуном словарного запаса.
Теперь в твоих глазах амбарного кота,
хранившего зерно от порчи и урона,
читается печаль, дремавшая тогда,
когда за мной гналась секира фараона.
С чего бы это вдруг? Серебряный висок?
Оскомина во рту от сладостей восточных?
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,
пустыни талисман, в моих часах песочных.
Помол его жесток, крупицы — тяжелы,
и кости в нем белей, чем просто перемыты.
Но лучше грызть его, чем губы от жары
облизывать в тени осевшей пирамиды.
1991
Древко твое истлело, истлело тело,
в которое ты не попала во время оно.
Ты заржавела, но все-таки долетела
до меня, воспитанница Зенона.
Ходики тикают. Но, выражаясь книжно,
как жидкость в закупоренном сосуде,
они неподвижны, а ты подвижна,
равнодушной будучи к их секунде.
Знала ли ты, какая тебе разлука
предстоит с тетивою, что к ней возврата
не суждено, когда ты из лука
вылетела с той стороны Евфрата?
Даже покоясь в теплой горсти в морозный
полдень, под незнакомым кровом,
схожая позеленевшей бронзой
с пережившим похлебку листом лавровым,
ты стремительно движешься. За тобою
не угнаться в пустыне, тем паче — в чаще
настоящего. Ибо тепло любое,
ладони — тем более, преходяще.
Февраль 1993
Когда-то здесь клокотал вулкан.
Потом — грудь клевал себе пеликан.
Неподалеку Вергилий жил,
и У. Х. Оден вино глушил.
Теперь штукатурка дворцов не та,
цены не те и не те счета.
Но я кое-как свожу концы
строк, развернув потускневший рцы.
Рыбак уплывает в ультрамарин
от вывешенных на балкон перин,
и осень захлестывает горный кряж
морем другим, чем безлюдный пляж.
Дочка с женой с балюстрады вдаль
глядят, высматривая рояль
паруса или воздушный шар —
затихший колокола удар.
Немыслимый как итог ходьбы,
остров как вариант судьбы
устраивает лишь сирокко. Но
и нам не запрещено
хлопать ставнями. И сквозняк,
бумаги раскидывая, суть знак
— быстро голову поверни! —
что мы здесь не одни.
Известкой скрепленная скорлупа,
спасающая от напора лба,
соли, рыхлого молотка
в сумерках три желтка.
Крутя бугенвиллей вензеля,
ограниченная земля,
их письменностью прикрывая стыд,
растительностью пространству мстит.
Мало людей; и, заслышав «ты»,
здесь резче делаются черты,
точно речь, наподобье линз,
отделяет пейзаж от лиц.
И пальцем при слове «домой» рука
охотней, чем в сторону материка,
ткнет в сторону кучевой горы,
где рушатся и растут миры.
Мы здесь втроем и, держу пари,
то, что вместе мы видим, в три
раза безадресней и синей,
чем то, на что смотрел Эней.
Октябрь 1993
Как это ни провинциально, я
настаиваю, что существуют птицы
с пятьюдесятью крыльями. Что есть
пернатые крупней, чем самый воздух,
питающиеся просом лет
и падалью десятилетий.
Вот почему их невозможно сбить
и почему им негде приземлиться.
Их приближенье выдает их звук —
совместный шум пятидесяти крыльев,
размахом каждое в полнеба, и
вы их не видите одновременно.
Я называю их про себя «углы».
В их опереньи что-то есть от суммы комнат,
от суммы городов, куда меня
забрасывало. Это сходство
снижает ихнюю потусторонность.
Я вглядываюсь в их черты без страха:
в мои пятьдесят три их клювы
и когти — стершиеся карандаши, а не
угроза печени, а языку — тем паче.
Я — не пророк, они — не серафимы.
Они гнездятся там, где больше места,
чем в этом или в том конце
галактики. Для них я — точка,
вершина острого или тупого —
в зависимости от разворота крыльев —
угла. Их появление сродни
вторженью клинописи в воздух. Впрочем,
они сужаются, чтобы спуститься,
а не наоборот — не то, что буквы.
«Там, наверху», как персы говорят,
углам надоедает расширяться
и тянет сузиться. Порой углы,
как веер складываясь, градус в градус,
дают почувствовать, что их вниманье к вашей
кончающейся жизни есть рефлекс
самозащиты: бесконечность тоже,
я полагаю, уязвима (взять
хоть явную нехватку в трезвых
исследователях). Большинство в такие
дни восставляют перпендикуляры,
играют циркулем или, напротив, чертят
пером зигзаги в стиле громовержца.
Что до меня, произнося «отбой»,
я отворачиваюсь от окна
и с облегченьем упираюсь взглядом в стенку.
Читать дальше