Георгий Шенгели - Собрание стихотворений
Здесь есть возможность читать онлайн «Георгий Шенгели - Собрание стихотворений» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Поэзия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Собрание стихотворений
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Собрание стихотворений: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Собрание стихотворений»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
На основе электронного сборника сайта «Век перевода» (http://www.vekperevoda.com/books/shengeli/).
Собрание стихотворений — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Собрание стихотворений», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Закат отбагровел над серой грудой гор,
Но темным пурпуром еще пылают ткани,
И цепенеет кедр, тоскуя о Ливане,
В заемном пламени свой вычертя узор.
И черноугольный вперяя в стену взор,
Великолепный царь, к вискам прижавши
длани,
Вновь вержет на весы движенья, споры,
брани
И сдавленно хулит свой с Б-гом договор.
Раздавлен мудростью, всеведеньем
проклятым,
Он, в жертву отданный плодам
и ароматам,
Где тление и смерть свой взбороздили след, –
Свой дух сжигает он и горькой дышит гарью
— Тростник! Светильники! — и нежной
киноварью
Чертит на хартии: Все суета сует.
Разрушение
Кровь стала сгустками от жажды
воспаленной.
Иссохшая гортань не пропускала хлеб.
И город царственный весь превратился
в склеп.
И в знойных улицах клубился пар зловонный.
И вот — задавлены. Искромсаны колонны,
И покоренный царь под иглами ослеп,
И победители, как по пшенице цеп,
Прошли по всей стране грозою
исступленной.
Из чаши жертвенной поили лошадей,
Издрали мантии для седел и вожжей,
И Летопись Царей навек запечатлели.
Минувшим, небылым святая стала быль.
Но в Раме выжженной восплакала Рахиль,
И те рыдания сквозь время пролетели.
Кровь Захарии
Захария убит. И кровь его семь лет
Стояла лужею, клубясь горячим паром,
О преступлении вещая в гневе яром
И Г-спода моля о ниспосланье бед.
И кровью теплою свой окропляя след,
Навуходоносор железным пал ударом;
Иерусалим овит клокочущим пожаром,
— Но кровь Захарии — как неизбывный бред.
Откуда эта кровь? — царь вопросил евреев,
И сжегши сто быков и пеплом кровь усеяв,
Вновь лужу свежую узрел на месте том.
Сто юношей он сжег, и так же кровь пылала.
— Тогда я весь народ здесь поражу мечом! –
И семилетнюю тоску земля впитала.
Спиноза
Они рассеяны. И тихий Амстердам
Доброжелательно отвел им два квартала,
И желтая вода отточного канала
В себе удвоила их небогатый храм.
Растя презрение к неверным племенам
И в сердце бередя невынутое жало,
Их боль извечная им руки спеленала
И быть едиными им повелела там.
А нежный их мудрец не почитает Тору,
С эпикурейцами он предается спору
И в час, когда горят светильники суббот,
Он, наклонясь к столу, шлифует чечевицы
Иль мыслит о судьбе и далее ведет
Трактата грешного безумные страницы.

Храм
Победоносного Израиля оплот
И Б-га Вышнего приют неистребимый!
Где слава гордая? Исчезла, точно дымы,
И в трещинах стены убогий мох растет,
Да юркая пчела, сбирая дикий мед,
Жужжит и вьется там, где пели серафимы,
И вековечною стальной тоской томимый,
У врат святилища рыданья льет народ.
Но храм разрушенный все был на страже Б-га:
Когда Отступника влекла его дорога,
И Я-гве алтари он дал богам земным, –
Вкруг идолов огонь заполыхал багряно.
Израиль, радуйся развалинам твоим:
В них гроб язычества и плаха Юлиана.
Иудеи
Народ, чье имя — отгулье Иуды,
Влачащий на себе его судьбу, –
О, не в твоем ли замкнутом гробу
Созрели пламенеющие руды?
Но там ли Б-г сокрыл свою трубу,
Чей вопль сметет последние запруды,
Когда на суд прихлынут трупов груды,
И гордый царь поклонится рабу?
Народ! Влачи звенящие оковы:
Ты избран повеленьем Ие-говы
Распространить священные лучи.
И миру благовествуя спасенье,
Иди! Иди закланцем отпущенья,
И о своем страдании — молчи.
Повар базилевса
Под вечер хорошо у Босфора,
Хорошо у Золотого Рога:
Море, как расплавленный яхонт,
Небо, как якинф раскаленный,
Паруса у лодок пламенеют,
Уключины у весел сверкают,
И кефаль в мотне волокуши
Трепетным плещет перламутром.
Да и здесь, на Босфоре Киммерийском,
Тоже хорошо на закате;
Надо сесть на горе Митридата,
Не глядеть на город у подножья,
А глядеть на Азийский берег.
Там над синемраморным морем,
Над пунцовой глиною обрывов
Нежно розовеют колоннады
Гермонассы и Фанагории.
А над ними пурпур и пепел,
Изверженье кратеров бесплотных,
Бирюзовые архипелаги
И флотилии галер пламезарных.
И даже православному сердцу
Мечтаются «Острова Блаженных»,—
Грешная языческая прелесть,
Сатанинский соблазн элленов.
А на город глядеть не стоит:
В запустеньи древняя столица,
В капищах языческих — мерзость,
Ящерицы, змеи да падаль:
Гавань месяцами пустует,
Не видать и челноков рыбачьих:
Плавают они у Нимфеи,
Продают весь улов евреям,
А те его гонят к Требизонду
На своих фелуках вертлявых,
Здесь же и скумбрии не купишь!
Обнищала древняя столица,
Оскудели фонтаны и колодцы,
Еле держатся башни и стены,
Ноздреватые, как сухая брынза.
А в степи хазары кочуют,
А в Согдайе готы засели,
И уже, говорят, к Фанагории
Подступали какие-то руссы.
Да и в городе самом неспокойно:
Архонтесса впала в слабоумье,
Преполит народу ненавистен,
Показаться на базаре не смеет,
А геронты в городском совете
Точно псы весною грызутся.
Хочется Богу помолиться
(И собор вот построили новый,
И епископа вымолить сумели),
А нету в соборе благолепья:
Языческие торчат колонны
Из храма Деметры-дьяволицы,
А потир для крови пречистой —
Деревянный, как ведро водовоза…
А на том, на другом Босфоре
Мраморные, говорят, соборы,
Купол, говорят, над Софией
На цепи золотой подвешен,
Опущенной прямо с неба
Из незримых Божьих чертогов.
В гавани, говорят, без счета
Всяческих галер и каравий —
Карфагенских и Александрийских,
С Митилены, Кипра и Родоса,
Даже, говорят, с Тапробаны,
Где у зверя-индрика люди
Слущивают кожу-корицу.
Там благочестивые монахи
Непрерывно Господу служат,
Там глава Ионна Предтечи
Благовоннейшее миро точит,
Там в порфирных палатах базилевса
Золотые птицы распевают,
И у трона львы золотые
Рычат и размахивают гривой.
А на троне базилевс ромэев
Пресиятельнейший и пресвятейший
В пурпурной виссоновой хламиде,
В белом саккосе златоклавом,
В золотой чеканной диадиме,
В измарагдах и адамантах,
Неусыпно печется о державе
И о вере святой православной:
Шлет стратегов на коварных персов,
Шлет навмархов на арабов лютых
И новые измышляет казни
Для еретиков богомерзких.
Вкруг него сидят каллиграфы,
Записывают каждое слово,
И слово становится законом,
И когда его объявляют
Владычествующему синклиту,
Никто прекословить не дерзает,
Все встают и кричат по-латынски:
«Дуэс тэ нобис дэдит, рэге!»
Двадцать раз повторяя и сорок…
Ах, ведь повезло же Вардану!
Вместе мы бычков с ним ловили,
Вместе крали (хоть и грех великий!)
Дыни с отцовских огородов.
Вместе и в соборном хоре пели,
Только Бог наделил его горло
Серебром, и медом, и ветром,
Так что и в небе херувимы
Слаще петь аллилуйю не могут.
Сам епископ тогда собирался
Оскопить его во имя Божье,
Чтобы дивный сохранился голос,
Не погряз бы в мужестве грубом.
Только, видно, Бог судил иначе:
Подавился рыбной костью епископ
И скончался, прославляя Бога,
А Вардан забежал в Киммерик
И прятался там два года,
А когда вернулся, усатый,
Еще лучше стал его голос:
Будто золотые подковы
По дамасскому бархату ступали.
А когда базилевс блаженный
Был злодейским мятежом нижзложен
И прибыл отдохнуть в Гермонассу,
Услыхал он моего Вардана
И к особе своей приблизил.
А когда хазарский хан лукавый
Подослал убийцу к базилевсу,
Мой Вардан почуял измену
И с молитвой удавил негодяя.
А когда базилевс умиленный
Истребил в столице крамолу
И сидел на торжественных ристаньях,
Наступив пятами святыми
На затылки двух своих злодеев,
Мой Вардан с патриаршьим хором
Воспевал псалом вдохновенный:
«Наступиши на аспида и змия,
Попереши льва и василиска!»
И теперь он — певец придворный
В личной капелле базилевса,
Он теперь и в святой Софии
Лишь на Пасху петь соизволяет.
А теперь и другое слышно:
Говорят, что сестра базилевса
Светодевственная Пульхерья
За Вардана замуж выходит!
Ах, и повезло же Вардану,—
А ведь вместе бычков ловили!
Он святынею окружился,
Он почти что Господа узрит,
А я, неудачный, в харчевне
Рыбу должен для матросов шкварить!
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Собрание стихотворений»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Собрание стихотворений» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Собрание стихотворений» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.





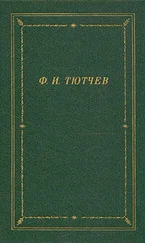

![Георгий Шенгели - Раковина [сборник стихов]](/books/393774/georgij-shengeli-rakovina-sbornik-stihov-thumb.webp)
![Георгий Шенгели - Изразец [сборник стихов]](/books/393775/georgij-shengeli-izrazec-sbornik-stihov-thumb.webp)
