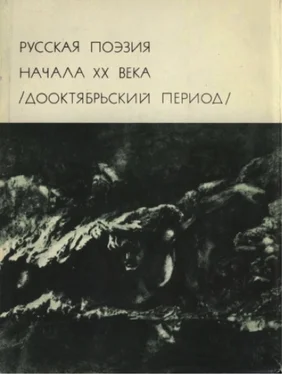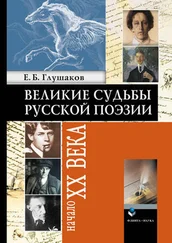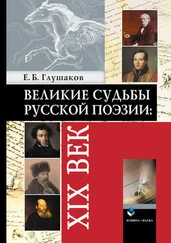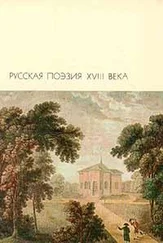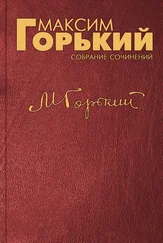Положительная программа высказывалась футуристами по преимуществу в отрицательной форме. Там же, где шли позитивные утверждения, «люди новой жизни» оказывались до крайности несамостоятельными, обнаруживая теоретические заимствования из самых разнообразных зарубежных и отечественных источников — от итальянского поэта и теоретика, основателя футуризма Маринетти, до филолога-слависта А. А. Потебни, с его учением о «лингвистической поэтике».
Антиэстетизм, отвержение традиций культуры, телеграфный синтаксис, преклонение перед городом и достижениями техники, увлечение кинематографическим стилем, стремление создавать неологизмы — все это входило в азбуку футуризма; взаимопроникновение объемов, смещения, сдвиги, наплывы — все это, по мнению новаторов, должно было не только поразить воображение читателя, слушателя, зрителя («Лошадь с двадцатью ногами»!), но и передать общую атмосферу современной жизни, с ее все более и более убыстряющимися темпами.
Симпатию к футуристам, особенно среди молодежи, вызывала ультрареволюционная фразеология, густо уснащавшая стихи, поэмы, всевозможные издания-декларации. Иногда говорят, что футуристы первыми ввели в поэзию город и технику. С этим нельзя согласиться. Символист Брюсов был убежденным урбанистом, а техника встречала читателей в стихах довольно давно — вспомним хотя бы «Железную дорогу» Некрасова. Футуристы обращались к мотивам разнообразного толка — от язычества и шаманства до урбанизма и техницизмов, от анархического своеволия до салонных изысканностей, от ницшеанства до революционного радикализма.
Среди «будетлян» (так еще иногда называли себя футуристы) — этих «Гениальных Детей Современности» — не было, пожалуй, ни одного, не прославлявшего современного перемещения в пространстве. Игорю Северянину, представлявшему самую незначительную ветвь футуризма, — грезилась поездка: «Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс». Василий Каменский (он одно время был летчиком), пролетая над Варшавой, ощущал себя «одиноким Колумбом», живым памятником, поражаясь при этом своей «святой скромности».
В футуристских откровениях обращает на себя внимание следующее теоретическое обстоятельство. Футуристы, видя сущность жизни в стремительном динамизме, понимая время и движение чисто механистически, забывали, что перемещение происходит не только в пространстве, но и во времени, производя глубочайшие качественные изменения. Ребенок становятся взрослым, из желудя вырастает дуб, зерно превращается в колос. Эти очевидности великолепно понимал, скажем, Велимир Хлебников, постоянно обращавшийся в поэмах-утопиях к огромным временным пластам, гневно бунтовавший против буржуазной культуры. Тем более не вмещался в рамки футуризма Маяковский, чья революционная поэзия, по остроумному наблюдению Николая Асеева, была как бы начертана огромными буквами.
Футуризм, прославляя и возвеличивая жизнь, непрестанно и бурно трансформируемую победоносной наукой, провозглашая «свободу слов», отвергая все, что было «до», не мог стать искусством будущего, ибо оперировал упрощенными, вульгарно-механистическими представлениями о человеке как о мыслящей машине, близкой к роботу… Это вело к нивелировке и дегуманизации личности. Человек без прошлого напоминает бабочку-однодневку, родившуюся на заре и умирающую к вечеру. Искусство нового времени пошло по совершенно иному пути, что и было осознано лучшими, наиболее дальновидными и талантливыми последователями доктрины в двадцатых годах, Те же, кто и в совершенно иную эпоху продолжал повторять футуристские рационалистические прописи или жонглировал заумными словесами, оказались не в будущем, а в прошлом, которому не было возврата.
К величайшему революционному рубежу совершенно несхожие, враждующие модернистские течения пришли в кризисном состоянии. Символисты, полагавшиеся на интуицию, акмеисты, возведшие форму в культ, футуристы, увлекавшиеся и заумью, и рацио, отстаивавшие дисгармонию содержания, ниспровергавшие смысл слова, — оказались неподготовленными к пониманию событий, эхо которых прокатилось по всему миру. «Безъязыкая улица» подхватила стихи-агитки Демьяна Бедного, запела революционные гимны и марши, стала повторять и выучивать наизусть безыскусственные стихи пролетарских поэтов, созвучные настроению.
В жизни, да и в искусстве, ничто не проходит бесследно.
Александр Блок окунулся в революционную стихию и создал, пойдя на разрыв с многолетними единомышленниками, «Двенадцать», поэму, ставшую первой страницей поэзии социалистического мира. Споры о поэме не утихают и сегодня, но несомненно, что Блоку удалось первому воспроизвести громыхавшую над Петроградом «музыку революции».
Читать дальше