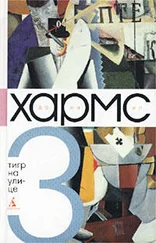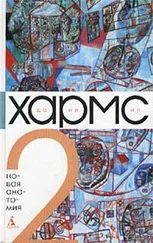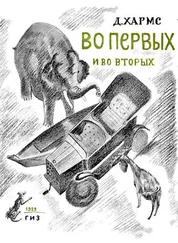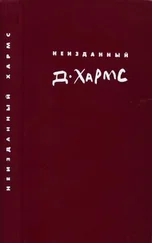— Наиболее для меня ценны не отдельные стихотворные удачи и даже не талант авторов, многих из которых слышу впервые. Важно то, что прочитанные стихи, все без исключения, взращены отечественной поэзией.
Так говорил Шкловский, предварив сегодняшние ответы многочисленным западным славистам, которые продолжают спрашивать, какая же зарубежная школа, какие западные авторы влияли на поэтов ленинградского объединения? Виктор Борисович отмечал несомненное влияние русской поэзии XVIII века, поэтов пушкинского круга, самого Александра Сергеевича, говорил о влиянии братьев Жемчужниковых и А. К. Толстого, когда они выступали вместе И конечно же, о продолжении дела кубофутуристов, в первую очередь Велимира Хлебникова.
— Не только, — раздался чей-то голос. — Самый молодой из читавших явно тяготеет к футуристу Крученых.
Говоривший, конечно, имел в виду меня. Хотя я активно не любил, когда подчеркивали мой почти несовершеннолетний возраст, упоминание прочитанных стихов позволило и мне вступить в общий разговор. А сказал я, что Запад на нас все же влиял, не через литературу — через живопись. В подтверждение этих слов я назвал своих любимцев: Пауля Клее, Миро, Пабло Пикассо.
И тогда на меня буквально обрушился Введенский: — Говори о самом себе, а не обобщай, на меня никакая живопись не влияла и повлиять не может.
Помнится, меня взял под защиту Заболоцкий, сказав, что на него давно и бесспорно влияла живопись Павла Филонова.
Завершая наш недлинный разговор, Шкловский помянул господина Марянетти. «Если бы лидер западных футуристов снова пожаловал к нам в гости, — сказал Виктор Борисович, — я не сомневаюсь, участники „Фланга“ заняли бы позицию Хлебникова».
Виктор Борисович был, несомненно, прав, оптимистичное творчество «Фланга» — явление, безусловно, русское, только русское. Он это понял, и мы были ему за это благодарны.
Встреча закончилась, члены содружества вышли из аудитории, а заседание продолжалось, разговор о нас без нашего участия.
Мы направились к трамвайной остановке. Кто-то из нас полушутя поздравил Введенского с большим успехом.
— Иначе и быть не могло, — ответил Александр.
Нашего общего друга нельзя было упрекнуть в излишней скромности.
Прошло несколько лет. По указанию администрации приютившего нас Дома печати мы заменили название группы «Левый фланг» глуповатым словом «обэриуты», производным от ОБЭРИУ, что расшифровывалось примерно так: Объединение реального искусства.
Мы продолжали собираться, но не в комнате Хармса, как это бывало прежде, а в одной из гостиных Дома печати. И было нас теперь на трех обэриутов больше. К нам примкнули кинематографист А. Разумовский, прозаик Дойвбер Левин, поэт Николай Олейников.
Как-то Введенский нам сообщил, что в ленинградской Капелле намечен вечер Маяковского с непременным в те годы диспутом.
— Не мешало бы и нам выступить, не с критикой прочитанных стихов, а с чтением собственной декларации, — говорил он.
Идея понравилась. Черновой проект декларации было предложено подготовить Николаю Заболоцкому, автору статьи о поэзии ОБЭРИУ, помещенной в журнале «Афиши Дома печати».
Посетить Маяковского в номере, кажется «Европейской» гостиницы, согласился Даниил Хармс. Владимир Владимирович принял Хармса доброжелательно, однако от чтения составленного и всеми подписанного сочинения отказался.
— Я же услышу вашу декларацию в Капелле, этого вполне достаточно, — сказал Маяковский.
На следующий день семь обэриутов стояли на эстраде Капеллы (восьмой — Олейников — по служебно-дипломатическим соображениям выйти на эстраду отказался). Произнести декларацию с короткими примерами обэриутского творчества было поручено Введенскому.
Выйдя на авансцену и объяснив, что мы не самозванцы, а творческая секция Дома печати, он огласил результат нашего коллективного сочинения, что заняло минут двадцать. Неизбалованная подобными выступлениями публика слушала Введенского внимательно. Когда же Александр замолчал и присоединился к стоявшим на эстраде обэриутам, раздались отдельные негромкие хлопки.
За кулисами к нам подошел сопровождавший Маяковского Виктор Борисович.
— Эх, вы! — сказал он. — Когда мы были в вашем возрасте, мы такие шурум-бурум устраивали — всем жарко становилось. Это вам не Институт Истории Искусств. Словом, надо было иначе…
Как мы ни старались убедить Виктора Борисовича, что перед нами стояла узкоинформационная задача, он не сдавался.
Читать дальше