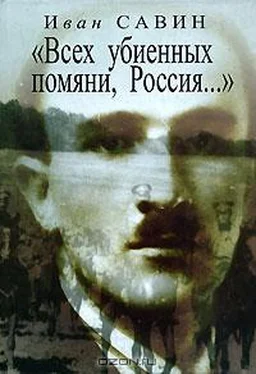— Из моего мешка вырвали все игрушки, все сладости, все сладости, все хорошие — по старому правописанию — книжки и наполнили его всякой дрянью: окурками советских папирос, талонами от пайков, кусками газет без ять и твердых знаков. И даже вырвали клок бороды.
— Мне вырвали ногу! — пожаловался поручик гвардии, но сейчас же с достоинством выпрямился.
— Глаз пробили, — сказал музыкант. — Подковным гвоздем. А еще культурные люди!
— Культурные? — оторвался от трубы и декольте балерины астроном. — Как бы не так. Они мою обсерваторию в конюшню превратили, а моими научными трудами топили печи.
— Вот, посмотрите… — вместе закудахтали подозрительные дамы, подымая обрывки платьев (музыкант скромно закрывал единственный глаз), — от наших чудесных платьев алого шелка только нитки остались. Все пошло на флаги, на звезды…
Балерина показала синяк на левом плече. Только ослиная голова ни на что не жаловалась. Впрочем, ее никто и не спрашивал.
Стало тихо и грустно в огромной, холодной зале. Бог весть до каких вздохов и истерик дошло бы общее настроение, если бы сильный порыв ветра не вырвал тряпку из разбитого стекла и не качнул бы верхушку елки. С грохотом упал вниз Петрушка.
Как известно, этот рубаха-парень никогда не ноет. Не ныл, не плакал он и теперь. Раздвинув вчетверо улыбкой свое размалеванное лицо, Петрушка крикнул на весь зал (до службы по елочному ведомству Петрушка ходил с шарманкой по дворам и кричать был мастер):
— Эх вы! А еще буржуями считаетесь! Чего приуныли, носы на квинту повесили? Что, господарики, не веселы? Завтра у нас Рождество, так и празднуй его! Вот ты, ваше благородие, небось говоришь, что noblesse oblige, а сам от чекистских насмешек стал пешкой из пешек. Эй, балерина, станцуем со мной танец родной. Играй, музыкант, не зарывай в землю талант! А ты, дед, хоть и сед, а никак ноешь, дурак. Звездочет, небесный мудрец, брось ты трубу, наконец, балерина уже со мной, пляши с дамой иной! А тебя, ангел, прислал нам рай, так ты должность свою исполняй, взмахни крылом над землей, землю весельем покрой, на то нынче и Божье Рождество, чтобы мы праздновали его!
Всеми забытыми огнями вспыхнула елка. В буйном танце понеслись пары. Дрогнул зал от топота деревянных, бумажных и ватных ног. Лихо звенели шпоры кавалергарда, белым пухом плыла балерина, дед-мороз вспомнил старину и плясал мазурку. Даже одноглазый музыкант, держа скрипку в одной руке, другой обхватывал талию подозрительной дамы и говорил очень томно:
— Я люблю вас, божественная! Правда, я теперь нищий, но ведь не всегда же будут большевики. У меня было маленькое имение в Саратовской губернии (врал: никакого имения у него не было).
А когда сквозь разбитые стекла донесся колокольный звон, звон, какой только бывает в эту удивительную ночь, опустились на колени все танцующие вокруг елки и сказали звезде, пылавшей ярким заревом па самой верхушке:
— Верни нам былое! Верни нам прошлую, сияющую, всю затканную огнями елку!
Я думаю, что ничего этого не было. Вероятно, это мне просто приснилось. Ведь не может же быть, чтобы говорили, смеялись и плясали елочные игрушки. Конечно.
Но как же я завидую ему, рубахе-парню Петрушке. Если бы я мог в эту великую ночь свалиться откуда-нибудь сверху ко всем вам и сказать вам то же самое:
— Эх вы! — и т. д.
(Новые русские вести. 1925. № 312)
Хорошо, Господи, что у всех есть свой язык, свой тихий баюкающий говор. И у камня есть, и у дерева, и у вон той былинки, что бесстрашно колышется над обрывом, над белыми кудрями волн. Даже пыль, золотым облаком встающая на детской площадке, у каменных столбиков ворот, говорит чуть слышно горячими, колющими губами. Надо только прислушаться, понять. Если к камню у купальни — толстущий такой камень, черный в жилках серых… — прилечь чутким ухом и погладить его по столетним морщинам, он сейчас же заурчит, закашляет пылью из глубоких трещин — спать мешают, вот публика ей-Богу! А потом подумает: нехорошо, брат, и для здоровья вредно на старости лет злиться. И много-много интересного расскажет своим добрым каменным языком.
Расскажет о пугливых жуках, живущих под его запрятанным в земле животом. О морской пене, которая, собственно, никому не нужна, потому что только смеяться и умеет. О звездах, падающих в августе с неба, где им, должно быть тесно. А может, просто попутешествовать хочется. Расскажет о том, как давно-давно всю ночь проплакала на нем золотоволосая девушка, обсыпая его горячими горошинами слез, а под утро бросилась в море. Говорили, какая-то там любовь со смертью ее обручила. Глупые эти люди, будто без любви и жить нельзя. Повыдумывали разное, а что в мире солнце есть и, что вон та щепка, бьющая о борт лодки — им и дела нет!
Читать дальше