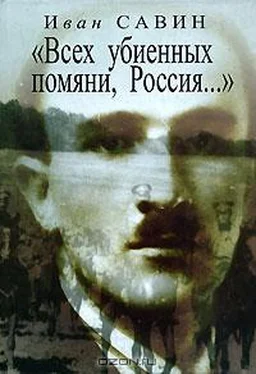Так и вышло.
Сперва каждую сотню сопровождало двадцать вооруженных красноармейцев, потом десять, потом пять. В конце концов пленные уходили из Джанкоя или совершенно без конвоя, или их вел, так сказать, почетный конвоир из советского обозного сброда, полураздетый, безоружный, по внешнему виду ничем не отличавшийся от вверенной его попечениям сотни «врангелистов».
К вечеру на эту почетную должность уже не находилось кандидатов. Советская армия, со всеми своими необозримыми тылами и обозами, неудержимо рвалась в Симферополь, к берегам Черного моря, к вину, к кошелькам застрявших в Крыму буржуев, к складам нового английского обмундирования. О богатой добыче махновцев и буденовцев, первыми ворвавшихся в «осиное гнездо контрреволюции», из уст в уста переходили творимые легенды. Уверен, что тот же магнит грандиозного грабежа притянул к себе и джанкойский особый отдел, поспешивший разделаться с нами путём «амнистии».
Только утром следующего дня я примкнул к возглавленной Кожухиным сотне и двинулся на север.
На голове у меня была тиролька, на теле — присланная сестрами рубаха, поверх которой — чтобы не сняли — я надел рваный мешок из-под муки. Найденные за городом галоши, оказались малы — я прошел в них час, натер до крови ноги, бросил галоши.
Сначала холодная, по утрам подмерзавшая грязь дороги и острые камни доводили до слез. Потом боль притупилась, стала безразличной. На горке, круто сбегавшей к Джанкою, мы нашли еще теплый труп старика-татарина с отрубленными шашкой ушами. На волосатой груди его лежала крышка переплета с надписью: «Собаке собачья смерть…»
Справа, за переходящим в мелкий кустарник садом горела скирда соломы. Слева плелись волы красного обоза. Над головой жужжал аэроплан…
Так начался мой многодневный поход на Мелитополь, закончившийся торжественным в него въездом — смел ли я думать, что придется посягнуть на славу товарища Ленина — в запломбированном вагоне…
* * *
Долго бежала «бандитская» сотня наша по пыльной, желтой щетине необозримой степи. Выплывает в памяти ночь того же дня, первая по пути на Мелитополь. Железнодорожное полотно осталось далеко справа. Скрипели телеги, мягко цокали копыта, песни сливались с руганью в диком попурри, пока таяли в беспрерывной встречной волне советской пехоты и конницы. Когда ушли в степь, тысячеголосый оркестр смолк. Редко в тревожную тишину врывались выстрелы. Густая тьма упала на тропинку, с вечера служившую нам путеводной звездой. Стушевались телеграфные столбы, овраги, широкая межа, все время черневшая слева. У всех нас давно уже не было хлеба. Ветер студил грудь, холодная роса жгла ноги. И все-таки мы шли куда-то.
Теперь я знаю — если у человека отняли семью, дом, а завтра возьмут жизнь, то ему уже все равно что делать — идти бессмысленно вперед, бежать назад, лечь в придорожный овраг, плакать, петь. Финал один ведь — смерть! Но тогда семья моя казалась мне живой, родной дом только временно покинутым, жизнь как никогда прекрасной. И я замедлял её часы, казавшиеся всем нам последними.
Несколько раз мы меняли направление, проходили версту, две в сторону, возвращались назад. Жилья не было. Сидели с полчаса на твердой замерзающей земле. Засыпая на несколько минут, вспоминал каждый раз ночные переходы у Днепра, редкие привалы, сонный крик командира полка (звали его все Андрюша). — Стой! Слеза-а-ай… Помню как подхватывали эскадронные командиры то же тягучее, долгожданное «Слеза-а-ай», с какой быстротой, привязав поводья к руке, падали мы с седел на землю, все равно куда — в пыль, грязь, снег — засыпая молниеносно… и как невыразимо мучителен был новый крик Андрюши — «садись» — прерывавший такой мертвый, такой заслуженный сон.
Теперь не было этого «садись». Шорох подымавшихся с земли фигур, заменил команду. Шли понуро, снова, снова, не зная куда…
Под утро вошли в немецкую колонию…
Румяное солнце смеялось в голубом небе… как румяный пастор на голубой стене. Было необычайно тихо. Эта тишина, кажется, и разбудила меня… Все ушли. Я смастерил себе лапти из найденной в классе тряпки. Оттого ли, что утро было такое яркое, или мне просто ничего другого не оставалось делать, я бодро, внимания на холод не обращая, ковылял по хрустящему ледку дороги. Как ручьи, впадали в большую дорогу проселочные тропинки. У одного из таких перекрестков я некоторое время простоял в нерешительности: а вдруг я иду не а Мелитополь, а в Крым, в «осиное гнездо контрреволюции»? Вспомнились слова сказки: «направо пойдешь — коня потеряешь, налево — сам погибнешь…» Но так как ни коня, ни жизни у меня уже не было, я заковылял по прежнему направлению.
Читать дальше