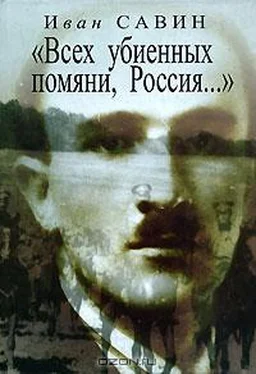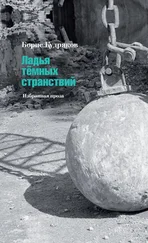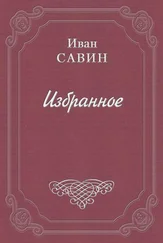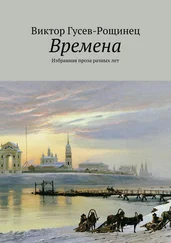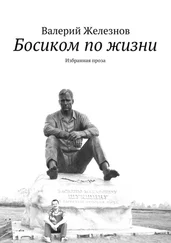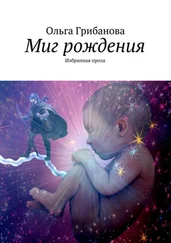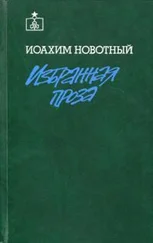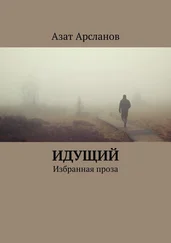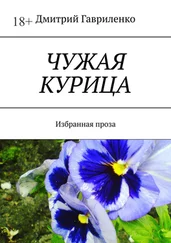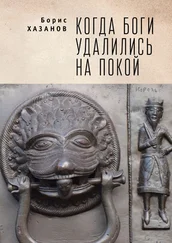Можно себе представить поэтому, как были удивлены в советской России «раскаянием» Слащова все, кто знал его былую и, думаю, искреннюю непримиримость к советской власти. Высказывалось даже предположение, что Слащов «притворяется», Слащов прибыл в Россию исключительно в целях поднятия восстания. Увы, на это «герой Крыма» не пошел и с легкостью, презрения достойной, предал своих соратников и «продал шпагу сплою». Правда, шпаги этой не приняли, командной должности в Красной армии Слащову не дали, но под вечным дамокловым мечом советской немилости и малому будешь рад: Слащов довольствовался ролью лектора красным курсантам, изредка поругивал в коммунистических органах зарубежную «контрреволюцию».
Но, очевидно, этого было недостаточно для полной реабилитации «белобандита Слащова-Крымского». И вот, спустя два года после смены вех, генерал нашел нужным опубликовать свои воспоминания, недавно выпущенные Госиздатом (Слащов Я. Крым в 1920 году: Отрывки из воспоминаний / Предисл. Д. Фурманова. М.; Л., 1924. 148 с).
В кратком, но выразительном предисловии говорится: «Слащов-вешатель, Слащов-палач: этими черными штемпелями припечатала его имя история». После столь любезного комплимента товарищ Фурманов говорит, что «отрывки из воспоминаний» являются фактически его, Слащова, защитительной речью, с чем нельзя не согласиться.
В продолжение всей книги генерал-сменовеховец открывает только те места своей прежней деятельности, на которых нет, выражаясь словами товарища Фурманова, «черного штемпеля», Он утверждает, например, что контрразведка действовала без его ведома и даже, будто бы, вела за ним самим наблюдение. Наряду с этим Слащов подчеркивает, что беспощадность он проявлял не только по отношению к большевистски настроенным рабочим, но и к офицерам, пытавшимся его свергнуть (расстрел полковника Пивоварова), и что вообще он «карал только верхи» (стр.49). Предполагая, что данный аргумент вряд ли подействует на ГПУ, генерал выдвигает смягчающие его «белогвардейство» обстоятельства: «свою слепоту, обусловленную воспитанием, свою полную политическую безграмотность, рассеянную лишь за последнее время, когда я понял всю преступность прошлой моей борьбы против рабочего класса». Стремясь в выгодном свете вырисовать собственную свою фигуру, Слащов, разумеется, не жалеет черной краски для обрисовки «вопиющей картины хищений, разврата (это пишет Слащов!), борьбы честолюбий на верхах Белой армии». Оказывается, теперешний товарищ Слащов в продолжение всей своей крымской деятельности только и думал о «рядовой толпе, о пайке для рабочих и защите их интересов» (стр. 131). Заканчивается эта подлая в своем пресмыкании перед ГПУ книга описанием обороны Крыма, где автор стремится доказать чрезвычайную ценность свою как военспеца, «могущего быть широко и плодотворно использованным СССР, поскольку я ныне пришел к признанию его и полному раскаянию».
Заслужила ли эта книга выдачу автору ее свидетельства о коммунистической благонадежности, пока знать не дано, да вряд ли это и интересно. Гораздо любопытнее и для всех будущих сменовеховцев поучительнее то двойственное положение, в какое попал бывший «начальник оборота Крыма». Вот уж поистине: от одних отстал, к другим не пристал. Если в коммунистической среде за ним прочно установлена кличка «Слащов-вешатель», то в эмигрантских кругах его иначе не называют, как «Слащов-предатель».
И, только временно отойдя от партийных и бытовых условностей, беспристрастно проанализировав нашу бешеную эпоху, поймешь, до, какого безумия должна была дойти жизнь, чтобы в ней стали возможны люди типа Слащова-Крымского, меняющие свои убеждения, как перчатки, и за большевистскую похлебку оплевывающие сегодня то, за что вчера боролись!
(Новые русские вести. 1924. 12 августа. № 193)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Письма Ивана Савина
1. 15 мая 1923 г. Гельсингфорс
Знаю, будет большой для Вас неожиданностью получить от меня письмо, милая далекая Рива! Все эти годы, месяцы, дни было грустно, сегодня же взгрустнулось в особенности. В памяти — кто ее просит? — всплыло, все — нежное, юношеское, невозвратное, такое любимое и мертвое. Всплыло, а некому передать свою ноющую боль, не с кем тихонько, по-детски, глупо заплакать. Вот и пишу Вам, другу нашему родному, привычному, чуткому. Черноглазой сестренки моей Нади — нет. Никого нет. Но именно поэтому Он — неизменно близкий к ней и нам всем человек — теперь еще ближе мне, роднее.
Читать дальше