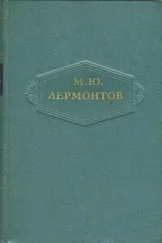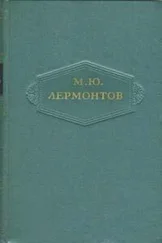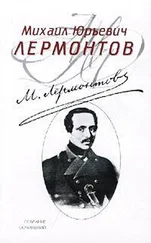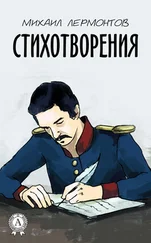174
Три пальмы
Печатается по сборнику 1810 г., где датировано 1839 г. Впервые — в ОЗ (1839, №8).
По словам Белинского, относится к группе стихотворений, где «личность поэта исчезает за роскошными видениями явлений жизни». «Пластицизм и рельефность образов, выпуклость форм и яркий блеск восточных красок — сливают в этой пьесе поэзию с живописью: это картина Брюллова, смотря на которую хочешь еще и осязать ее» (Белинский, т. IV, стр. 534).
Стихотворение аллегорично.
Отрывки из него были взяты Н. А. Добролюбовым в качестве эпиграфа и заключения к одному из разделов статьи «Темное царство», характеризующей трагическое положение личности в темном царстве произвола и угнетения.
Соотносится с IX «подражанием Корану» А. С. Пушкина («И путник усталый на бога роптал…») — по линии сюжета, ориентальной окраске, характеру строфики и стиха.
Фарис — всадник, наездник (араб.).
175
Молитва(«В минуту жизни трудную…»)
Печатается по сборнику 1840 г., где датировано 1839 г. Впервые — в ОЗ (1839, №11).
По свидетельству А. О. Смирновой, написано для княгини Марии Алексеевны Щербатовой (урожд. Штерич; 1820-1879), которой Лермонтов был увлечен в 1839-1841 гг.: «Машенька велела ему молиться, когда у него тоска. Он обещал и написал эти стихи». Имя Щербатовой называли в связи с разговорами о дуэли Лермонтова с Эрнестом де Барантом (1818-1859), атташе французского посольства, сыном французского посла А. Г. П. Баранта.
176
Дары Терека
Печатается по сборнику 1840 г., где датировано 1839 г. Впервые — в ОЗ (1839, №12).
В стихотворении отразилось знакомство Лермонтова с песнями живущих на Тереке гребенских казаков.
177
Памяти А. И. О<���доевско>го
Печатается по сборнику 1840 г., где датировано 1839 г. Впервые — в ОЗ (1839, №12).
Посвящено памяти поэта-декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802-1839), автора знаменитого стихотворения «Струн вещих пламенные звуки…», написанного в ответ на «Послание в Сибирь» Пушкина. (Строки из стихотворения Одоевского — «Из искры возгорится пламя» — были взяты эпиграфом к большевистской газете «Искра».)
В 1837 г. А. И. Одоевский был переведен из Сибири на Кавказ рядовым солдатом Нижегородского драгунского полка, где встретился и подружился с Лермонтовым. А. И. Одоевский умер 15 августа 1839 г. от лихорадки, находясь в действующей армии на берегу Черного моря.
178
«На буйном пиршестве задумчив он сидел…»
Печатается по автографу из тетради Чертковской библиотеки с воспроизведением последней, зачеркнутой автором строфы, без которой стихотворение не существует как художественное целое. Впервые две начальные строфы напечатаны в «Современнике» (1854, №1); полностью (с зачеркнутой строфой) — там же (1857, №10).
Датируется 1839 г., так как написано на одном листе с окончанием стихотворения «Памяти А. И. О<���доевско>го».
Связано с рассказом французского писателя Лагарпа «Пророчество Казота» (опубликован в 1806г.). Ж. Казот — французский писатель-монархист, казненный в 1792 г. Лагарп рассказывает, что на обеде у одного знатного вельможи Казот якобы предсказал в 1788 г. Французскую революцию и казнь на гильотине присутствующих на пире гостей, в том числе и собственную судьбу.
Следуя легенде Лагарпа, Лермонтов создал злободневное политическое стихотворение. В конце 1839 г. в связи с неурожаем усилилась волна крестьянских восстаний. В «нравственно-политическом отчете» Николаю I за этот год шеф жандармов Бенкендорф писал, что «Россия представляла в продолжение целого лета ряд происшествий, дотоле беспримерных». «В народе толкуют… что всему злу причиной господа, т. е. дворяне!.. Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством…» («Крестьянское движение 1827-1869 годов», Подготовил к печати Е. А. Мороховец». Вып. I, Соцэкгиз, 1931, стр. 36, 31).
По своему настроению стихотворение близко к юношескому «Предсказанию» 1830 г.
179
«Как часто, пестрою толпою окружен…»
Печатается по сборнику 1840 г., где датировано 1840 г. Впервые — в ОЗ (1840, №1).
Дата «1 января» перед текстом стихотворения позволяет считать, что Лермонтов подчеркивает его связь с новогодним маскарадным балом в дворянском собрании. И. С. Тургенев вспоминал, что Лермонтову, присутствовавшему на этом балу, «не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества» (И. С. Тургенев, Собр. соч., М. 1956, т. 10, стр. 331).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу