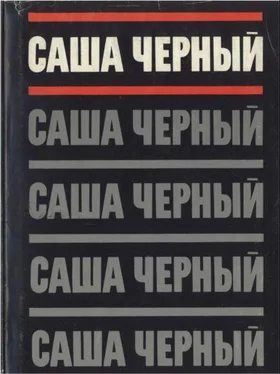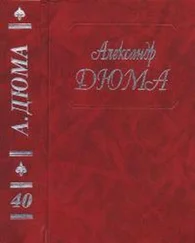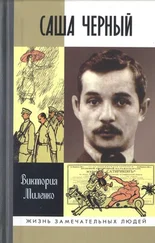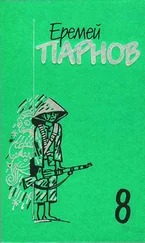Одни лишь черти, Вий да ведьмы, и русалки,
Попавши в плен к писателям modernes,
Зачахли, выдохлись и стали страшно жалки,
Истасканные блудом мелких скверн…
Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Как хорошо, что ты не можешь встать…
Но мы живем! Боюсь — не слишком много ль
Нам надо слышать, видеть и молчать?
И в праздник твой, в твой праздник благородный,
С глубокой горечью хочу тебе сказать:
— Ты был для нас источник многоводный,
И мы к тебе пришли теперь опять,—
Но «смех сквозь слезы» радостью усталой
Не зазвенит твоим струнам в ответ…
Увы, увы… Слез более не стало,
И смеха нет.
<1909>
СТИЛИЗОВАННЫЙ ОСЕЛ *
(Ария для безголосых)
Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам.
По ночам я шатаюсь с распутными пьяными Фёклами,
По утрам я хожу к докторам.
Тарарам.
Я — волдырь на сиденье прекрасной российской словесности,
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!
Оголюсь и добьюсь скандалезно-всемирной известности,
И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.
Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется,
У меня темперамент макаки и нервы, как сталь.
Пусть «П. Я.»-старомодник из зависти злится и дуется,
И вопит: «Не поэзия — шваль!»
Врешь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии,
Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,
Прыщ с головкой белее несказанно-жженной магнезии
И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.
Ах, словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы!
Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.
Кто не понял — невежда. К нечистому! Накося — выкуси.
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу…
Попишу животом и ноздрей, и ногами, и пятками,
Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,
Зарифмую все это для стиля яичными смятками
И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках…
<1909>
ПРОСТЫЕ СЛОВА *
(Памяти Чехова)
В наши дни трехмесячных успехов
И развязных гениев пера
Ты один тревожно-мудрый Чехов
Повторяешь скорбное: «Пора!»
Сам не веришь, но зовешь и будишь,
Разрываешь ямы до конца
И с беспомощной усмешкой тихо судишь
Оскорбивших землю и Отца.
Вот ты жил меж нами, нежный, ясный,
Бесконечно ясный и простой —
Видел мир наш хмурый и несчастный,
Отравлялся нашей наготой…
И ушел! Но нам больней и хуже:
Много книг, о слишком много книг!
С каждым днем проклятый круг все уже
И не сбросить «чеховских» вериг…
Ты хоть мог, вскрывая торопливо
Гнойники, — смеяться, плакать, мстить,—
Но теперь все вскрыто. Как тоскливо
Видеть, знать, не ждать и, молча, гнить!
<1910>
Жил на свете анархист.
Красил бороду и щеки,
Ездил к немке в Териоки
И при этом был садист.
Вдоль затылка жались складки
На багровой полосе.
Ел за двух, носил перчатки —
Словом, делал то, что все.
Раз на вечере попович,
Молодой идеалист,
Обратился: «Петр Петрович,
Отчего вы анархист?»
Петр Петрович поднял брови
И багровый, как бурак,
Оборвал на полуслове:
«Вы невежа и дурак».
<1908>
Она была поэтесса,
Поэтесса бальзаковских лет.
А он был просто повеса —
Курчавый и пылкий брюнет.
Повеса пришел к поэтессе,
В полумраке дышали духи,
На софе, как в торжественной мессе,
Поэтесса гнусила стихи:
«О, сумей огнедышащей лаской
Всколыхнуть мою сонную страсть.
К пене бедер, за алой подвязкой
Ты не бойся устами припасть!
Я свежа, как дыханье левкоя…
О, сплетем же истомности тел!»
Продолжение было такое,
Что курчавый брюнет покраснел.
Покраснел, но оправился быстро
И подумал: была не была!
Здесь не думские речи министра,
Не слова здесь нужны, а дела…
С несдержанной силой кентавра
Поэтессу повеса привлек.
Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!»
Охладило кипучий поток.
«Простите… — вскочил он. — Вы сами».
Но в глазах ее холод и честь:
«Вы смели к порядочной даме,
Как дворник, с объятьями лезть?!»
Вот чинная Мавра. И задом
Уходит испуганный гость.
В передней растерянным взглядом
Он долго искал свою трость…
Читать дальше